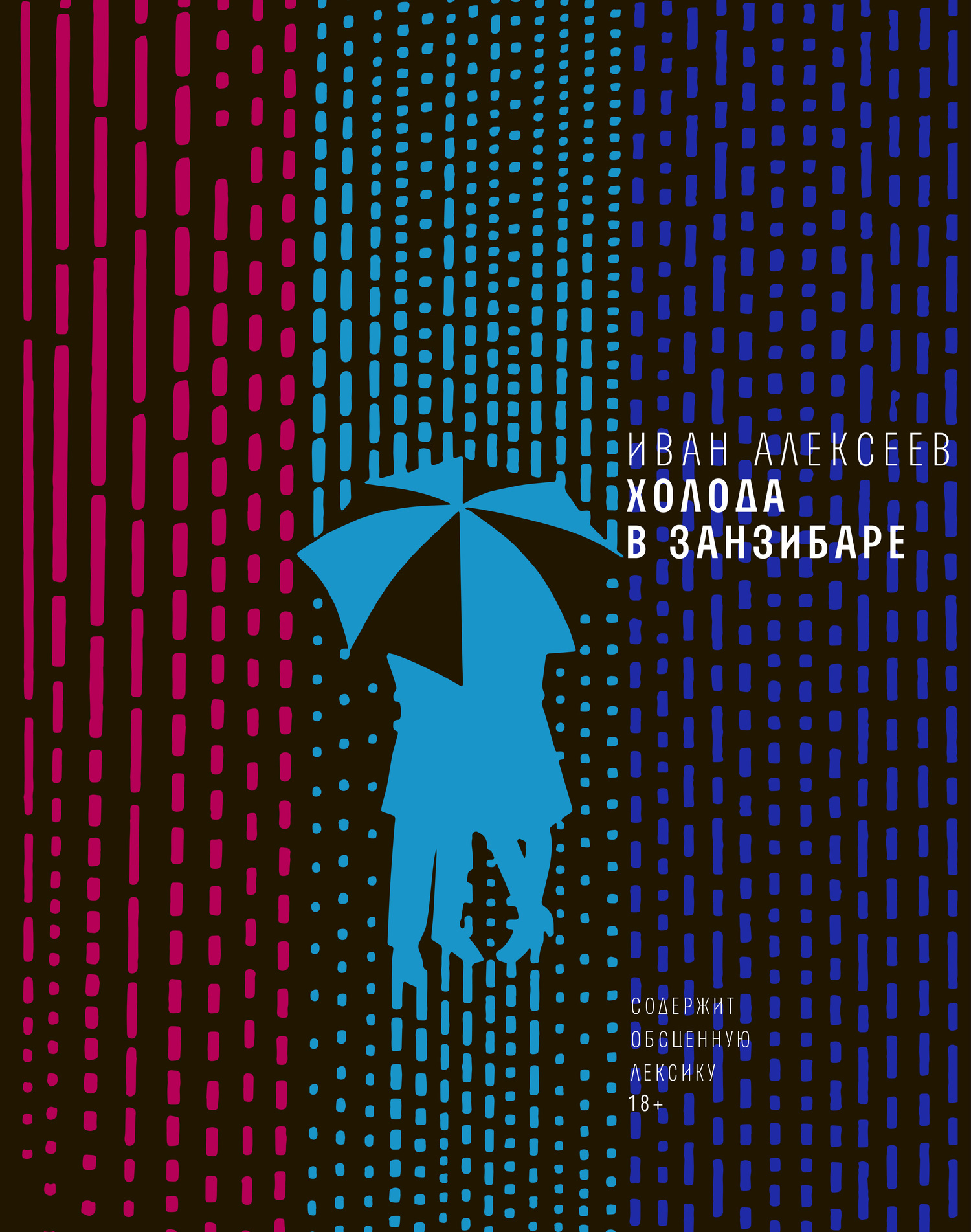небольшим меня выпустили с солдатской гауптвахты – с мокрыми штанами, заплывшим глазом и казенной зеркалкой. Пленку из нее безжалостно выдрали. Лейтенант, чье обручальное кольцо я запомнил на всю жизнь, похлопал по плечу, подтолкнул в спину – за КПП. На темно-вишневом «Ковровце», сложив руки на груди, сидел Гудок. Глаз прищурен, в правом углу рта спряталась улыбка: на хрен ты им сдался? Чтоб лычки поотрывали?
Мне было стыдно – жирный обоссался. Садиться на мотоцикл отказался. Брел, загребая кедами пыль обочины, – боялся расплакаться. Жорка, поддерживая ногой равновесие, катился рядом. Крикнул ему: отзынь! Гудок дал по газам.
Весь следующий день провалялся на диване. Физические страдания обострялись душевной болью от потери друга.
Вечером под окном раздался хлопок из глушителя. Гудок поставил на стол бутылку красного, высыпал из кармана горсть тянучек, задрал левую штанину – кожу икры приподнимала жирная царапина. По ногам целили, сказал он. Петлял как заяц.
Стреляли в воздух, но говорить этого я не стал. Дружба дороже.
Мотоцикл завелся с полуоборота, поведал Гудок. Дома он обезглавил пять кур, занял у соседа бутылку водки, выгреб из подпола хранившееся в рассоле сало. Уже через десять минут с рюкзаком, сочившемся кровью и рассолом, подъехал к КПП. Дары были приняты. Так у Гудка открылся талант – давать.
На другой день с сумкой гостинцев отправились с матерью к Жорке – благодарить. Тетя Оля, наливая водку, решительно накрыла мамину руку, застенчиво теребившую кошелек с протершейся подкладкой: не обижай, Галя! Знаешь, сколько доярка теперь получает? Мама испуганно прикрыла рукой рот: правда, что ль, Оль?
В институт Жорка поступать не стал – устроился учеником слесаря на автобазе Сельхозхимии. Это у тебя, Толстый, призвание, сказал он. А мне биография нужна.
От нас все ехали поступать в Ленинград, я же решил рвануть в другом направлении – в Москву. На удивление легко, несмотря на тройку по английскому, был зачислен на журфак МГУ – в фотогруппу. Засчитали публикации в районке, выручила, как с гордостью говорила мама, врожденная грамотность – сочинение написал на пять.
Весной приехал в Сольцы на проводы. Утром, похмелившись, гурьбой отправились на призывной пункт. Льдины наваливались на сваи и сотрясали мост. На плече у Жорки висел отмытый от крови рюкзак. Тетя Оля беспрерывно Жорку крестила: только не Афганистан!
Туда он и попал после учебки.
Я ответил на три письма, четвертое оставил без ответа – засосала жизнь. Чем дальше, тем хуже – написать мешало чувство вины.
За десять лет моя одежда потеряла четыре размера.
Пароход кружил по Финскому заливу – гуляла мэрия Питера. Собчак в синем блейзере и белых брюках с фужером в руке переходил от группы к группе, пожимал руки и учтиво кивал. Других знакомых лиц не было. Отснял три пленки, рассчитывая, что в редакции с персонажами как-нибудь разберутся. За стол меня не пригласили. Стоял на палубе и, сменив портретник на телевик, поджидал, когда к куполу Кронштадтского собора подтянется облако. От хлопка по плечу чуть не выронил Nikon: Толстый!
Улыбка была там же, где и всегда – в углу рта, а стрижка под бокс (так нас стригли в раннем детстве) делала лицо чужим. В руке Гудок держал рацию. Отощал, сказал он. Пнул меня кулаком в живот: не мерзнешь? Ветер полоскал брючины его черного костюма, трепал красный галстук. О чем говорить, ни он, ни я не знали. Телефонами все же обменялись. Гудок сослался на службу – на пароходе он был чем-то вроде распорядителя корпоратива. Сбегая, сообщил, поцеловав щепоть из пальцев: шеф-повар здесь – такая «кожа»! Ши-карная!
Через восемь лет в составе питерской команды Гудок перебрался в Москву, где сразу получил квартиру. На новоселье я был приглашен вместе с женой.
К тусовкам костюмно-чиновной сволочи я привык, джинсы и свитер, что были на мне, не напрягали, а Вера зажалась – женские наряды сразили ее наповал, – за вечер не произнесла ни слова. Первую попытку уйти мы сделали, когда Гудок снял пиджак и галстук. Но он обошел стол, положил руку на мое плечо, заглянул в глаза: ты мне друг или полено? Вернулся на свое место и сразу обратился к соседу в очках, озадаченно поймавших блик от люстры: вот скажи, ты полный чайник на хую удержать сможешь? Сосед поперхнулся. А мы, он ткнул пальцем в мою сторону, из тех краев, где такие люди еще водятся.
Вторую попытку сбежать мы сделали, когда началось караоке. Фальшивого пения я не выношу. Останься, Слав, попросила Наташа, красавица в «маленьком черном платье», в начале вечера представленная как «боевая соратница». Останься, Толстый, крикнул через стол Гудок и поразил незнакомым словом: у меня для тебя реприманд!
Когда все гости рассосались и пожилая восточная женщина, опустив глаза, убирала со стола, Гудок, покачиваясь, вышел. Вернулся с сияющим лицом и с баяном в руках: по заявке нашего слушателя Георгия Ивановича Перегудова исполняется песня «Там, где клен шумит». Слушайте, Георгий Иванович, вашу любимую песню!
Пока я играл, Гудок уснул, сидя на стуле.
Дружба восстала из пепла.
За плечами у Гудка остались две жены и то ли двое, то ли трое детей. Жил он на широкую ногу, но обходился без плебейской демонстрации богатства, которой обыкновенно отличаются чиновники его уровня. Помогал охотно. Возможностями не хвастал, но я знал, если понадобится, положит в больницу по квоте, пристроит племянника на телевидение, выбьет место на старом кладбище. Я думаю, что стремление устроить мир вокруг себя в ладу и гармонии было зашито в его ДНК.
По субботам мы напивались в его огромной квартире.
Брать можно только тогда, когда дают от чистого сердца, поучал меня Гудок. Но сначала, Толстый, надрачись давать. Искренне! С уважением к тому, кто берет. Наташа села ко мне на колени, забралась пятерней в мои волосы на затылке: знаешь, почему Жорка тебя так любит? Почему? – спросил я, покрываясь блудливыми мурашками. Только с тобой и расслабляется. У нас на службе – такой гадюшник! Клубок змей! В тот вечер после песен под баян у нас случился «тройничок». Когда я оказался в «соратнице», Гудок показал из-за ее спины большой палец.
Осенью Гудок улетел в Сочи на курсы госаппарата. Туда же, в Сочи, перед отъездом в Израиль отправилась в ностальгический вояж на берег детства Инна – ее муж остался в Москве паковать вещи. В Сочи все и случилось – любовь-морковь и прочие реприманды. Пикантность роману придавало то, что происходил он в присутствии Ксюши – двенадцатилетней дочери Инны. Задержка месячных у новой любовницы обнаружилась в Москве, буквально накануне ее отлета на историческую родину мужа.
«Соратница» Гудка Наташа получила