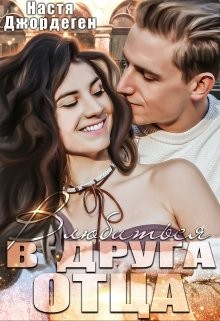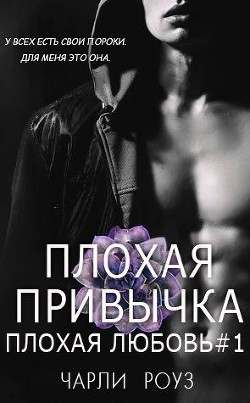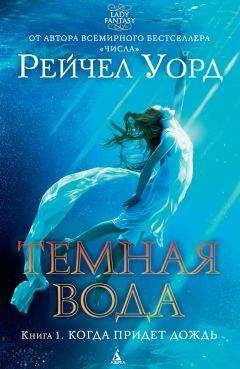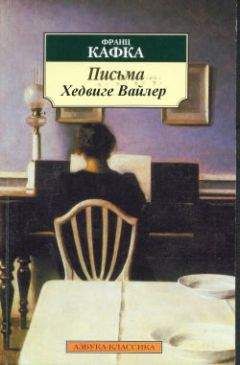Позднее разойтись, каждый в свою жизнь, и не позвать его на крестины моих детей. Это дерьмо продолжало бы вонять ещё и новым поколениям, и когда-нибудь стало бы всем наконец безразлично. Или пойти к нему.
После того, как я села, он спросил:
– Каково тебе было познакомиться с ним?
За его вопросом я заподозрила любопытство: рассказывал ли мне Рональд Папен о себе и, разумеется, рассказывал ли он об этом.
– Это было красиво. Волнующе. И печально, – сказала я.
– Что было печально?
– Ну, то дело между вами.
Он подался вперёд, и я увидела его волнение.
– Он тебе рассказал? Что именно?
– Я думаю, всё.
И тогда я передала ему, что рассказал мой отец о себе, о Хейко и о маме. О Фихтенвальде, о юности в Белице, о мечтах о побеге, о любви и разочаровании; о бизнес-идеях и о его исключении из футбольного клуба, об их дружбе втроём и о предательстве. Я пересказала, что знала о побеге через Венгрию и Австрию и как Хейко потом всё-таки появился. Пока я говорила, Хейко в некоторых местах кивал. Ему нечего было поправить или внести уточнения. Очевидно, мой отец ничего не приукрасил и ничего не упустил.
– Вот так он мне это рассказал. И также то, что маркизы у него от тебя.
– Тотальный хлам. Непригодный к использованию. Их же невозможно было смонтировать.
– Из-за болта, – сказала я.
– Да. Ошибочная конструкция. Я это заметил сразу, когда этот склад попал мне в руки.
– Ты хотел иметь в своей жизни и то и другое. Маркизы и моего отца.
– Можно сказать и так. Можно и иначе: я хотел иметь в жизни твою маму. Мне было больно потерять Ронни.
Потом Хейко рассказал, как он всегда восхищался своим лучшим другом. Как он ценил его выдержку. И что Рональд всегда его выслушивал. Никакой бредовый разгул фантазии его не раздражал. С Рональдом он мог часами рассуждать о самых абсурдных идеях, например, о социалистическом «Диснейлэнде», в котором Сталин и Маркс в виде плюшевых фигур выше человеческого роста бегали бы кругом и раздавали гэдээровские конфеты-пралине из бобового пюре, облитого глазурью из говяжьей крови. Хейко изображал моего отца как безобидного фантаста, который не находил одобрения нигде, кроме как у него, у Хейко.
И потом как раз это трио, с Сюзанной. Да, разумеется, оба они чувствовали любовную печаль Ронни. Но они всё равно не хотели от него отделяться, по крайней мере, основную часть времени. Даже в отпуске в Плитвице они были втроём, просто неразлучно, потому что они ведь были друзьями. Пускай Хейко и Сюзанна и были чуточку больше, чем друзья.
И однажды, словно гром среди ясного неба, с этим было покончено. Разумеется, у Штази молодёжь всегда была в центре внимания. Это Хейко знал, он всегда обстоятельно раскланивался с сотрудниками Штази, если узнавал кого-то из них в лицо, что было не очень трудно.
– Они сидели в машине перед нашим домом и даже не старались быть незаметными. Они хотели запугать моего отца.
Но эти своенравные Микулла не давали никакого повода для таких мер, как арест, и это, пожалуй, огорчало органы. До того самого дня в октябре 1988 года. Хейко намеревался раздобыть для отца проволоку определённого сечения. Он целый день провёл в разъездах. На машине отца. Когда Штази взяли его перед дверью и увезли в Хоэншёнхаузен «для выяснения положения дел», он вообще не понял, что это означало. И только когда они ему зачитали, что он арестован за мошенничество с валютой, за планирование незаконного пересечения границы, за шпионаж и враждебные государству действия, он спустился с облаков на землю.
Ему-то всё это были шуточки. Регулярные. Да, его убеждения были антиправительственные, и он это не оспаривал. Он же всюду, где мог, высмеивал этот режим. Но чтобы шпион? Если он был врагом государства, потому что высмеивал казённый язык официальных органов, то надо его за это засудить. И пусть ему предъявят его якобы планы бегства. У него их нет. Он требовал доказательств.
Но они посадили его в одиночную камеру и каждый день водили на допросы. Там орали на девятнадцатилетнего мальчишку, хлопали дверьми, заставляли часами стоять по щиколотки в ледяной воде и унижали его оскорблениями и угрозами. Говорили, что он спасёт своего отца, если наконец расколется. При этом раскалываться ему было не в чем. В какой-то момент Хейко начал от отчаяния выдумывать себе ответы, которые, по его мнению, могли бы удовлетворить следственные органы. Но они не реагировали на это, снова и снова ставили старые вопросы или просто качали головой.
Закончив, они отводили его назад в камеру, хлопали дверью и ждали, когда он заснёт, и тогда снова будили. Это называлось пыткой лишением сна. Будили по шесть раз за ночь, чтобы разрушить чувствительную фазу быстрого сна: тогда всё, что оставалось от сновидения, превращалось в чистое безумие.
А на следующий день снова допрос, взывание к его честности. Дескать, надо быть искренним, разве его не учили этому в детстве родители? Бывал ли он с отцом на Балтийском море? Что они думают о ГДР? Хейко изо дня в день имел дело с одним и тем же следователем. Он никогда не видел никого другого, и в многочасовых разговорах тон изменялся в мгновение ока. Штазист становился дружелюбным, рассказывал ему о личном, чтобы тут же после этого выкрикивать угрозы. Мол, до сих пор с ним были слишком терпеливы. И что, мол, за человек Папен? Знает ли Хейко его родителей? Участвовали ли они в антигосударственной смуте? Правда ли, что их сын торговал краденой народной собственностью из больниц? Хейко отрицал всё, даже если ему обещали послабление режима, если он назовёт имена. Хейко не пошёл на это. Он никогда не был предателем. И сейчас не станет. За это он расплачивался мучительным ярким светом в ночи, адским грохотом, который учиняли охранники, запугиванием и криком следователя.
Когда Хейко однажды спросил, откуда, собственно, взялись эти обвинения, следователь сказал, что из свидетельских показаний. На него, мол, донесли, и ему светит двадцатилетний срок на обдумывание, кого он вовлекал в свои махинации. Хейко попросил предъявить ему наконец обвинение, но, разумеется, не получил его. Семью проинформировали, и ей тоже пригрозили. Мол, это будет плохая идея – раззвонить во все колокола об аресте их сына. Мол, пусть радуются, что он жив. И, мол, велел им кланяться.
Потом, по прошествии девяти с лишним месяцев его наконец отпустили. Без объяснений, без извинений. То ли сочли невиновным,