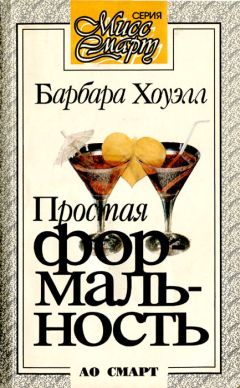- Сперва считается рано, - сказал ему тогда Платонов. - Потом делается некогда. А когда спохватываются - уже поздно! Я заметил три такие стадии.
- Это вы про меня? - спросил приехавший.
- Нет. Я ведь вас совсем не знаю.
- Все равно про меня. Конечно, поздно и, конечно, некогда. Слушайте, а вдруг они все повлюбляются там друг в друга, размякнув от соловьев и сиреней?
- Когда-нибудь и повлюбляются, что с ними сделаешь? Только это все не так происходит: послушал соловья, да и влюбился. Нет. Влюбится он, может быть, во вторник или через пять лет, тут уж ничего не поделаешь. Но вот тогда-то пускай он лучше вспомнит стих и соловья в весеннем лесу, чем вечеринку с пивом или переполненный автобус... В общем, заверяю вас, что ничего похожего на поголовные влюбления среди учеников у нас не наблюдается.
- Так-то оно так... - с тягостной натугой тянул приезжий. - Так-то оно все так...
- А вам часто приходилось в молодости соловьев послушать?
- Ловко!.. Ну, что ж, вылью ушат воды на вашу мельницу! Часто ли? А ни разу. Ну и что?
- А все-таки влюбились? Женились?
- Же-енился! - как-то безнадежно махнул рукой приезжий, тяжело скрипнув пружинами дивана, отворачиваясь лицом к стене. - Женился! Да. Давайте-ка лучше спать, коллега!
И странное, очень странное дело: встречаясь после, они молча пожимали друг другу руки, улыбаясь глазами, и им казалось, что есть у них в прошлом что-то общее и хорошее...
Скоро пришел новый доктор, выписал бюллетень, и после того как он попрощался, выходная дверь очень долго не хлопала - значит, он задержался и вел долгий разговор с Казимирой и тетей Люсей. Потом обе женщины отправились в аптеку вдвоем, чтоб не показываться сразу ему на глаза: по их лицам он сразу бы узнал, чего там наговорил доктор. Они не понимали, что Платонов все знает сам.
А вечером Казимира принесла бумагу и карандаш и устроила деловое обсуждение, как надо им всем организованно подготовиться к зиме. Это когда весна еще только наступала. Но Казимира, не отличавшаяся находчивостью, непреклонно и торжествующе долбила, что все дело в том, чтобы заранее определить, сколько и когда надо будет купить картошки и наквасить капусты, чтобы "потом решительно ни о чем не думать". Потом стали спорить, что сажать на всех четырех грядках огорода в их палисаднике; решили, что к зиме надо будет наконец заново утеплить входную дверь и оклеить новыми обоями комнату Платонова. А Платонов вслушивался не в то, что она говорит, а почему она говорит, и вывод получался хоть и ожиданный, но очень неуютный: по-видимому, Казимира стремилась убедить Платонова, что его должно интересовать то, что в этом доме будет происходить будущей зимой. Даже не глядя на рассеянно-оживленные лица женщин, нетрудно было догадаться, что после беседы с доктором у них такой уверенности не было.
- Это не все, - сказал долго молчавший Платонов. - Капуста! На зиму надо обязательно будет яблок намочить, что может быть лучше антоновки! - И Казимира с тетей Люсей очень обрадовались, что так удачно повели разговор и он ничего не заметил.
Через несколько дней, когда Платонов стал потихоньку выползать на воздух и, собравшись с силами, отправился в первый раз поглядеть, что творится в школе, Казимира Войцеховна с тетей Люсей снова сидят за самоваром и ждут, ждут. Самовар шумел, шумел и замолчал.
Тетя Люся, задумчиво поглаживая теплый краник самовара, после долгого молчания вздыхает с легким стоном и, безутешно качнув головой, произносит вслух:
- Боже мой, ведь он же еще совсем молодой человек!
- Ну так что? - Казимира недружелюбно замолкает, ей тоже что-то грустно, но она встряхивается и непреклонно объявляет: - Что-то хочется есть. Пожалуй, пока что можно будет съесть мою капусту! - Она каждый день ест кислую капусту из гигиенических соображений, она "следит за собой" точно так же, как в те времена, когда она была гимнасткой и потом преподавала гимнастику в школе, где директором был Платонов.
Она подвигает к себе тарелку, навивает, как на вилы, небольшую охапку капусты на вилку, подозрительно нюхает, поднеся к носу, и убедившись, что пахнет старой кислятиной, самоотверженно отправляет лохматый стожок в рот. Жует она неукоснительно и добросовестно, сохраняя непреклонное выражение лица, как человек, не позволяющий себе уклоняться от выполнения долга, и заметно, что при этом получает удовольствие именно от того, что капуста невкусна и пахнет затхлым, а она вот ее ест! Вот вчера ела! И вот завтра будет есть!
- Если что-нибудь случится... ужасное... я не представляю себе, для чего же я тогда буду жить, ну для чего?
Сквозь капустный стог во рту Казимиры доносится невнятно:
- У вас есть племянница. А у меня нет никого.
- Что такое племянница? - безнадежно вздыхает тетя Люся. - Племен никаких теперь нету и что значит племянница? Свояченица?.. Когда я вижу написанное слово "свояченица", это мне почему-то напоминает "яичница", чепуха какая-то...
- Не знаю. Мне приятно было бы знать, что у меня где-то есть на свете племянница. Я бы могла к ней привязаться. Хотя не уверена.
Наконец обе вспоминают, что можно выйти погулять с собакой и таким образом встретить Платонова. Тетя Люся зовет собаку Мишей, а Казимира Мишкой, и тот, завалившийся было с горя спать в своей будке, с восторгом откликается лаем и первым вылетает за калитку.
Расплескивая лужи, подходит освещенный автобус. Платонова нет, и женщины до следующего автобуса, который будет только через десять минут, идут по обочине дороги к Набережному бульвару, взбираются на горку, откуда видна сверху речка, и стоят, провожая глазами цветные огоньки маленького пароходика, тянущего за собой низкую баржу с избушкой на корме, где дымит труба и в квадратном окошечке уютно светится за занавеской огонек. Тетя Люся с завистью думает о том, как хорошо бы в таком домике сидеть у топящейся печки и потихоньку плыть по темной реке...
Когда они неторопливо возвращаются обратно, у калитки, через дорогу от их дома, стоит соседка Майка, жена шофера Полухина. Скрестив руки на груди, вся сжавшись и сунув ладони под мышки, она ежится в легком платье от вечерней сырости и нетерпеливо вертит головой, осматриваясь по сторонам.
Первым из темноты выскакивает Мишка, и, узнав его, Майка, перепрыгивая лужи, бежит через дорогу:
- Где же вы все попропали? Окна темные, никого нет! Стучим, стучим! Николай Платоновича нету?
- Он в школе. А что случилось?
- Случилось ничего! Ему телеграмма! - Майка оборачивается к своему дому и кричит: - Ле-еша! Давай сюда живей, пришли-и! - И сейчас же слышен грохот каблуков скатывающегося по лестнице со второго этажа Леши, и он, вытирая рот, что-то дожевывая, выскакивает на крыльцо.
Увидев его, Майка всплескивает руками и начинает хохотать:
- Да чего ж ты прибежал, как дурачок, с пустыми руками. Телеграмму неси!
Леша молча поворачивается и, махая через две ступеньки, несется по лестнице вверх.
- Эта телеграмма из Москвы, а один раз, тоже я расписывалась за вас, была из Парижа, вот это интересно, да? - говорит Майка.
- Да, ну и что же тут такого? И в Париже люди живут, - холодно замечает Казимира.
- Живут, да нам с вами телеграмм не шлют чего-то! И эта, наверное, сейчас тоже от Наташи.
- На основании чего вы так думаете? - спрашивает Казимира ледяным голосом.
- На основании того, что Наташа была подругой сестренки моей Дуси. У нас во всем нашем семействе знают, какая есть Наташа. По-моему, наоборот, этому удивляться странно.
Снова загрохотав по ступенькам, Леша скатывается с лестницы и протягивает телеграмму Майке.
- Вот пожалуйста, - начинает Майка, но вдруг вприпрыжку бросается бежать через дорогу, разглядев Платонова у остановки автобуса. Майка проскакивает под самым носом тронувшейся машины и, когда Казимира с тетей Люсей, пропустив автобус, добираются до дома, Платонов уже кончает читать телеграмму при свете спички, которую держит Майка.
- Еще зажечь? - спрашивает Майка. - Прочитали? Ну что? Хорошая? Вы извините, нам бы только знать: хорошая или нет?
- Хорошая, - растерянно произносит Платонов. - Конечно хорошая. Надо бы ехать...
- В Москву?
- Да. Только поздно, вечерний поезд уже ушел. - Он смотрит на часы. Да, сейчас уходит, через полторы минуты.
- Николай Платонович, погодите, я Лешку спрошу. Он что-нибудь придумает. Ле-еш! Скорей, беги сюда.
Леша подходит и здоровается с Платоновым.
- Лешка, выручай, как хочешь, лопни-сдохни, а выручай. Надо к московскому поезду поспеть на Большую станцию. С нашей уже ушел последний.
- Вообще грязь, - задумчиво произносит Леша, - а то бы вдоль реки можно коротким путем, а в общем можно, вы собирайтесь только побыстрее. Машина у меня во дворе ночует - завтра в пять утра по наряду ехать... Собирайтесь, Николай Платонович, все будет как надо!
- А я что сказала? - торжествующе замечает Майка в сторону Казимиры Войцеховны. - Лешка сделает.