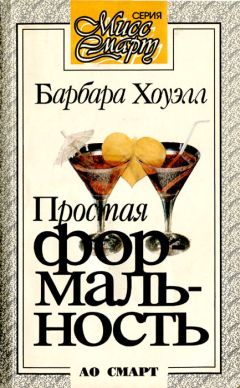- Николай Платонович, погодите, я Лешку спрошу. Он что-нибудь придумает. Ле-еш! Скорей, беги сюда.
Леша подходит и здоровается с Платоновым.
- Лешка, выручай, как хочешь, лопни-сдохни, а выручай. Надо к московскому поезду поспеть на Большую станцию. С нашей уже ушел последний.
- Вообще грязь, - задумчиво произносит Леша, - а то бы вдоль реки можно коротким путем, а в общем можно, вы собирайтесь только побыстрее. Машина у меня во дворе ночует - завтра в пять утра по наряду ехать... Собирайтесь, Николай Платонович, все будет как надо!
- А я что сказала? - торжествующе замечает Майка в сторону Казимиры Войцеховны. - Лешка сделает.
Платонов с тетей Люсей и Казимирой, уже начиная торопиться, отпирают дверь, кричат на Мишку и скрываются в доме. Почти тотчас же во всех окнах зажигается свет - наверное, начались приготовления к отъезду.
Майка расслабленным голосом стонет:
- Леша, я сделалась такая утомленная, теперь тащи меня на руках до дому.
Леша молча нагибается, чтоб подхватить ее на руки, она со смехом его отталкивает и вприпрыжку бежит к дому.
А Платонов в это время, не успев положить шляпу и снять пальто, стоит, подставив телеграмму под яркий свет лампочки, и перечитывает, перечитывает, чтоб поверить, что она ему не приснилась там на улице, при свете спички. Телеграмма такая: "Выезжай немедленно необходимо увидеться срочно приезжай обязательно непременно очень жду считаю часы обнимаю Наташа".
Через четверть часа, распахивая на ходу все двери, ворвалась в дом Майка, с вытаращенными веселыми глазами, крича на ходу:
- Готово, пора ехать!
Платонов в это время стоял посреди комнаты, Казимира подшивала прямо на нем слишком длинный рукав парадной нейлоновой рубашки, а тетя Люся, хлюпая носом и смаргивая слезы, мешавшие ей видеть, почти вслепую пришивала пуговку на вороте, ту самую, которую она давным-давно собиралась пришить.
Вздрогнув от Майкиного крика, она нервно дернула и оборвала нитку, а Казимира схватила со спинки стула пиджак и, мешая Платонову, силком стала запихивать руки в рукава, а он уже застегивал воротник одной рукой, а другой уже шарил по столу, на ощупь отыскивая портфель, кое-как уложенный в дорогу.
- А успеете вы к московскому поезду? - тревожно причитала тетя Люся, и Майка с невыносимой гордостью отвечала:
- Лешка-то? Лешка успе-ет!
Только что пришитая пуговка снова отскочила и покатилась по полу, описывая дугу, которая неминуемо привела бы ее под кровать; Майка упала на колени и, хлопнув по полу рукой, точно кузнечика ловила, поймала пуговку, Платонов кое-как затянул ворот галстуком, и все побежали к машине.
В воздухе пахло ночной бодрящей свежестью многоводной ранней весны, зажженные фары освежали седую от росы траву, и вся машина была тоже в капельках росы, и слышно было, как вода журчит, сбегая по канавам к реке.
Казимира мужественно сказала "Ну!" и крепко пожала Платонову руку, а тетя Люся виновато чмокнула его в щеку и перекрестила украдкой так, чтобы никто не заметил.
Майка первой нырнула в кабину грузовика и прижалась к мужу, давая место Платонову, и, забавляясь его удивлением, закричала:
- Садитесь скорей, я с вами в Москву еду!
Приятно было смотреть на эту пару: проехаться вместе на грузовике ночью в город и тут же обратно - и то было для них громадным удовольствием.
Платонов сел и захлопнул дверцу. Не заводя мотора, Леша мягко тронул машину под горку. Тетя Люся взволнованно замахала платочком, всхлипнула и, не дожидаясь замечания, обернулась к Казимире:
- Ну, осуждайте, осуждайте, я и сама знаю, что надо радоваться, и я радуюсь, вы подумайте только, такая чудесная телеграмма. Я просто боюсь поверить в такое счастье!
- Хорошо. Но так волноваться совершенно нечего.
- Это вы им скажите! - досадливо воскликнула тетя Люся. - Я сама не понимаю, что с ними делается, с этими моими букашками: расчувствовались, просто разбушевались, удержу нет!..
Стало слышно, как зарычал начавший работать мотор, машина съехала к самому берегу, повернула, бросив на мгновение два столба света на воду, и ушла за бугор.
...Платонов, еще плохо понимая, что с ним происходит, сидел, упираясь ногами, придерживая портфель на коленях и хватаясь за ручку дверцы, когда машину встряхивало и Майка с веселым визгом валилась набок. Леша вел машину какими-то ему известными кратчайшими путями, взлетел на какой-то холм и снова спустился к самой воде.
- Николай Платонович, а верно, что Лешка у нас в школе шепелявый был?
Платонов помнил, как в Посаде среди мальчишек появилась уличная мода как-то шикарно шепелявить, выговаривая вместо "ч" что-то вроде шипящего "с", и у Леши это получалось особенно здорово.
- Что было - было, - охотно поддержал Леша. - Например, вместо подчиненные, у меня получалось подсиненные. Черт нас знает, и с чего это у нас пошло, не могу понять. А отвыкать было как трудно!
- А Николай Платоныч тебя отвык, ну отучил! Да?
- Старался, - сказал Платонов.
- На всю жизнь осталось, - смеясь, покачал головой Леша. - Перед всем классом он мне однажды говорит: "Как это ты, брат Леша, сказал? Повтори, пожалуйста". Ну я повторил: "Подсиненные его отса!", а он говорит: "Какая-то грустная картина получается, вроде они все ходят такие синеватые!"
- Ой, не могу! - Майка, хохоча, повалилась на плечо мужа.
- Тебе смешно, - с удовольствием продолжал Леша, - а мне не очень-то было! Он меня нарочно стихи вслух заставлял читать и подбирал такие, чтоб я обязательно попал в ловушку. Вот я читал-читал, да и брякнул: "Не искусай судьбу!" - и с чувством, на полный голос. А этот безжалостный человек, Николай Платоныч, так серьезно мне говорит: "Ты запомни, Алешка, этот совет, смотри лучше не искусай судьбу, а то как бы она сама тебя не искусала!"
Майка еще долго хохотала и вскрикивала: "Ой, я не могу!" - и, успокоившись, привалилась на плечо мужа, еще время от времени громко хмыкая, и через минуту заснула. Машина покатилась ровно, шурша по твердому песку и иногда одним колесом въезжая в воду.
Луна теперь смотрела в правое стекло, и Платонову видна была лунная дорожка на залитых весенней водой лугах, и в кабине стоял запах бензина, а из приоткрытой щели дул ветерок, пахнувший речной свежестью, и низкий туман медленно полз навстречу машине, и Платонов подумал, что даже если ничего уже не будет в его жизни, а только эта ночная поездка, ничего, кроме этой луны, ночной реки и тумана и телеграммы, - то это тоже очень много, невообразимо много для него.
Он прикрывал глаза, его мягко покачивало, машина бежала, монотонно бурча и поскрипывая по хрусткому песку, и ему почему-то стало представляться, что этот туман ползет где-то высоко в горах, где облака цепляются за вершины, и так же вот бежит машина мимо лесистых склонов и черных провалов горных обрывов - бежит куда-то вперед, наверное, к теплому морю, которое там, внизу, и почему-то все хорошо, и они с Наташей вместе, и машина несет их туда, где их ждет долгая счастливая жизнь...
Машину встряхнуло, она, громко рыча, взяла подъем и вдруг выехала на асфальт и, точно вырвавшись на свободу, с нарастающим гулом помчалась по шоссе к городу, через несколько минут по бокам замелькали домики, и стали все увеличиваться, и машина въехала в освещенные улицы и помчалась между двух рядов высоких домов к вокзалу...
Майка с Лешей распрощались и умчались обратно, оставляя позади городской шум, освещенные улицы, в тишину и сумрак весенней ночи, а Платонов вошел в зал ожидания и уселся прямо против запертого, вделанного в каменную стену, точно амбразура для пулемета, окошечка закрытой еще кассы, еле сдерживая нетерпение и волнение давно не ездившего человека.
Рядом с ним на скамье спал старик, поджав ноги в грязных сапогах, положив под голову тощий, перевязанный толстой веревкой мешок. Какие-то люди, подтаскивая по полу за собой тяжелый багаж, заглядывали в амбразуру окошечка, робко постукивали согнутым пальцем, напоминая, что пора открывать кассу, и в то же время боясь рассердить того пулеметчика, который, наверное, там скрывался.
Появлялись все новые люди с испуганными лицами опоздавших, таща баулы, мешки и готовые лопнуть от тяжести раздутые чемоданы. Уже несколько раз проходил мимо заспанный железнодорожник и каждый раз говорил: "Эй, дед, тут не гостиница, тут спать не полагается!", ночной вокзал постепенно оживал, и наконец открылось окошечко, и мгновенно образовалась толчея, и, хотя устроили ее всего человек семь или восемь, казалось - это целая толпа, шумная и беспорядочная.
Опять прошел железнодорожник и сказал, что тут не гостиница, и старик со вздохом во сне повернулся на другой бок.
Платонов купил билет и первым вышел на темную длинную платформу, где светились часы и под окнами буфета, сейчас закрытого и еле освещенного, чернели на асфальте лужи, а внизу, за краем платформы, было совсем темно, только маслянисто отсвечивали рельсы, убегая и разветвляясь где-то вдали, где у самой земли светили цветные огоньки. И вдруг над безлюдной платформой разом вспыхнула вся линия фонарей, громко, точно среди белого дня, заиграла веселая музыка и минуту гремела, точно в пустыне, над безлюдной платформой и черными лужами. Потом начал накрапывать дождик, и платформа стала оживать.