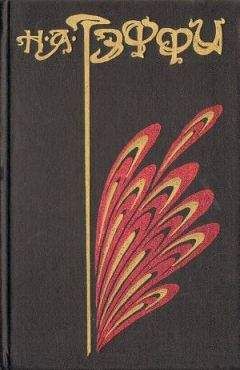Я решаюсь. Тихонько протягиваю руку, снимаю соломинку. Жук мгновенно подвёртывает ноги и притворяется мёртвым. Я, чтобы успокоить его, тоже притворяюсь мёртвой.
Когда жук убеждается, что надул меня, он снова отправляется по своим делам, серьёзный и озабоченный.
Червячок-землемер дополз до моего локтя, призадумался, взвился гибким зелёным тельцем и пополз назад. Видно, сбился со счёта и решил сделать поверку.
Четыре… пять… семь… – помогаю я ему, – Перемерим, запишем, будем знать, сколько в земле места приготовить. Нужно, чтобы на всех хватило… десять… одиннадцать…
Шевельнулось что-то между стволами, там, где начинаются первые ветки. Что-то прыгнуло яркое и радостное. Это там, за лесом, зажгло солнце свой алый фонарик и отбросило прожектором живой дымящийся столб.
Загорелись сухим огнём красностволые сосны, закружевились прозрачно кусты.
И вдруг с лёгким шорохом вбежал на полянку зверёк.
У него была острая звериная мордочка и острые звериные ушки, но глаза, суетливые и печальные, были не лесные и не звериные.
Зверёк повернулся боком, поднял ушки, прислушался. Робко дрожала приподнятая передняя лапка, а на спине дрожал привязанный к шее нелепый лиловый бант.
Послышался шорох и треск тяжелых шагов. За зверьком шли большие звери, дышали громко и вышли на полянку.
Их было два.
Впереди – покрупнее, похожий на большого кота, в сером костюме и клетчатых штанах. Позади – нечто вроде пуделя в юбке, пелерине, шляпке с кукушечьим пером и корзиночкой у локтя.
Звери остановились, посопели носами на сосны, на липы, на дымно-розовый огонь солнца, и первый из них сказал на человеческом немецком языке:
– Здесь.
Разостлали платок, сели.
Маленький зверёк с лиловым бантом забегал кругом, заюлил, залебезил и сказал большим зверям и глазами, и боками, и ушами, и хвостом, что он весь на их стороне, что не переманит его к себе ни дымный огонь, ни зелёный цвет, ни то, что шелестит наверху, ни то, что шуршит внизу. Ни до чего ему дела нет. Всё – дрянь, мелочь и ерунда, – вам служу и вам удивляюсь.
Пуделиха поставила на землю корзинку.
Три муравья сейчас же принялись изучать это новое явление природы, обнюхивали, обсуждали, как быть.
Пуделиха зашуршала бумагой, вытащила бутерброды с ветчиной, один дала коту, другой сунула себе в рот.
У обоих глаза сделались сразу удивленно-круглые. Закатный алый огонь осветил сетчатые красные жилки их тупо блестящих зрачков, а маленький зверёк с лиловым бантом задрожал всей грудью от сдержанного жадного визга.
– Молчи! – сказала пуделиха, – Сначала мы будем кушать, а потом и тебе дадим полопать.
Они жевали долго, уставив глаза в одну точку, чавкали громко и строго, так что вернувшийся с деловой прогулки жук на всякий случай притворился на минутку мёртвым.
Они жевали и молчали, и всё замерло кругом, даже розовые пылинки в дымном солнечном столбе чуть дрожали, не кружась и не взвиваясь. Всё застыло, и только торжественно и властно два жирных рта свершали жертвоприношение.
Картина была мистически-жуткая. Я видела, как тонкая, стеблистая травинка с пухом на маковке задрожала робко и поникла.
– Смилуйтесь над нами!
Я закрыла глаза…
– Ну-с, а теперь ты будешь лопать, потому что мы уже покушали.
Пуделиха вынула плошечку и налила из бутылки жиденького молока.
Зверёк с бантом, высунув сбоку розовый дрожащий язычок, стал лакать деликатно и благодарно.
А большие звери, тяжело дыша, водили глазами по притихшим кружевным кустам, по огнистым стволам, по нежно-шёлковым травам, а когда повернули глаза к дымному столбу заката, загорелись они прозрачно и льдисто, как драгоценные камни, и остановились. Что скажут они теперь?
Вот дрогнули глаза, прищурились. Маленькая быстрая молния мелькнула между ресницами. Это – мысль. Да, я угадала. Это – мысль. Кот сказал:
– Майер скоро купит аптеку.
После слов этих сразу стало так тихо, словно даже муравьи притаили дыхание.
Слушал лес, слушали звери, трава, солнце, древесные ползуны, небесные птицы, и маленький червячок – землемер взвился и застыл зелёным вопросительным знаком.
Слушали, как свершается недоступное, непостижимое, – как мыслит и говорит человек.
Дрожал зверёк с лиловым бантом и тихо, подавленно визжал, исходя любовью, восторгом и преданностью.
Тише… Тише… Слушай, земля!..
– Майер скоро купит аптеку.
В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо.
– От сына з вармии.
Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала.
– А може, и не мне?
– Почтарь казал – Явдохе лесниковой. Бери. От сына з вармии.
Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями.
– А ты почитай, може, и не мне.
Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его.
– Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.
Так и уехал.
Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.
Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха – длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину – не оставаться же, мол, на улице.
Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.
Потом пошла к кабану.
Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.
И думала любовно:
«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье нарожденье, так уж тогда не почешешься».
И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.
Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, слава богу, как следует.
Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.
Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала:
– Сын у меня, Панас. Прислал письмо з вармии.
После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.
Встала старуха, посмотрела в щелку – идут солдаты – много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?..»
Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село.
Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога липкая, вязкая, была словно ступой истолочена, и трава придорожная к земле прибита.
«Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!»
Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.
На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.
В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.
Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.
Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.
– Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гэй! Го-о-о!
Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «гой-гэй-го-о-о!». Уж очень гудят.
Потискалась Я вдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.
– У меня сын, Панас, – сказала Явдоха. – Сын письмо прислал з вармии.
Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.
Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.
Вдруг девки замолчали – сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, а на средину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии, корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.
Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.