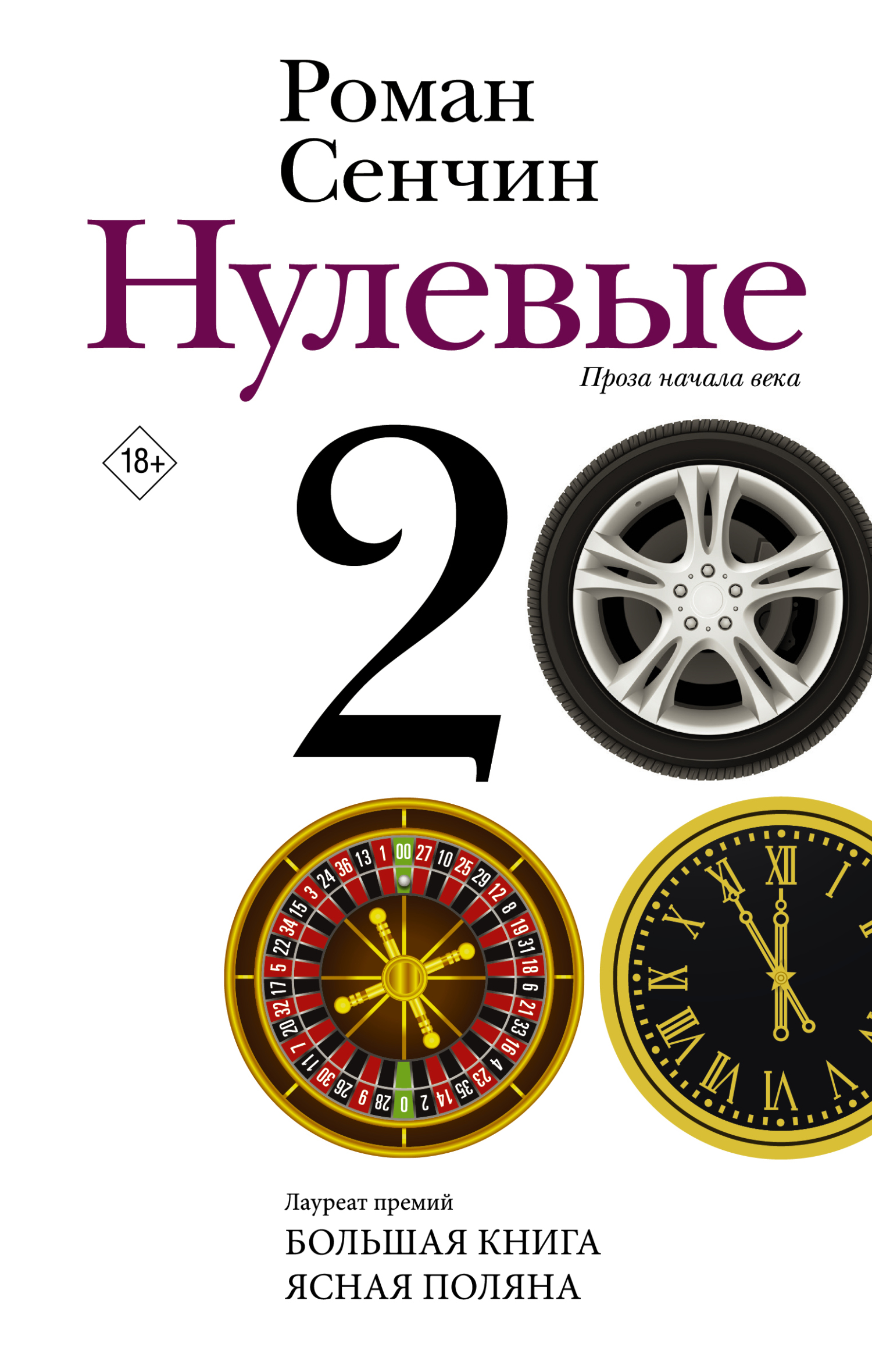И это не просто болезнь, которая пройдет, от которой возможно оправиться без следа. Это…
Мама сидела сейчас перед ним словно помолодевшая – глаза, давно блеклые, выцветшие, были черны, кожа на лице разгладилась, щеки румяные. Но что-то зловещее было в этом преображении.
– А собаке-то, – встревожилась она, – собаке дал?
– Нет пока. Не до нее.
– Дай… Она… на хлебе одном… Полбулки кидала… Там, – мама слабо качнула головой в сторону холодильника, – колбаса… ливерная… подкроши…
– Я знаю, знаю, – перебил Свирин. – Не трать силы.
Намешал Чиче похлебки из риса, кусочков потемневшей, заветрившейся ливерной колбасы, хлеба, теплой воды. Вынес. Заодно покурил, глядя на огород.
Он лежал чистый, прибранный, готовый к зиме, снегу, который весной растает, напитает землю, и мама с отцом позовут соседа Володю с мотоблоком, чтоб вспахал деляну под картошку, сами будут ковыряться, налаживать грядки, сеять морковку, редиску, перенесут из избы в теплицу ящики с рассадой помидоров, перца, капусты. Как все эти тридцать лет. Обязательно. Иначе не может быть. Не может!..
– Да где же они? – первое что услышал Свирин, когда вернулся. – Нет машины?
– Нет, мам. Еще рано.
– Да как же рано?.. Не могу больше… совсем…
Свирин посмотрел на часы. Ругнул себя, что не отметил, во сколько ушла фельдшерица. Но уже точно около часа назад. Ехать из города минут сорок. Но ведь пока она дошла до своей работы, пока те собрались…
– Может, позвонить в скорую? – предложил.
– Да конечно… конечно, звони… сынок… Не дотерпим ведь… Критическое… состояние, скажи…
И снова гудки, снова «в целях повышения качества», снова «Алло!».
Свирин стал объяснять, что час назад вызвали скорую, врач вызвала, родители в критическом состоянии.
– Так ведь отказ же поступил, – сказали в телефоне.
– Что? В каком смысле?
– В прямом. Позвонила бабушка, – опять это «бабушка»! – и отказалась.
– Никакого отказа не было! Я все время рядом с мамой. Никакого отказа! Срочно нужна помощь. Срочно! Они умирают, понимаете!
– Вы не кричите, молодой человек. Поступил отказ, что я могу сделать…
У Свирина плыло перед глазами. И в голове рвалось. Будто череп раскрыли и выдергивали мозг.
– Мы не отказывались… У вас, – вспомнил, – разговоры записываются. С какого номера был звонок с отказом?
– Мы не имеем права раскрывать данные.
– А не ехать к тяжело больным имеете?
– Молодой человек, я уже вам сказала…
– Так я сейчас подтверждаю вызов. Пожалуйста, окажите срочную помощь больным. – И Свирин четко произнес адрес.
– Заказ принят, – последовал сухой ответ; но главное – «принят».
– Что там? А? – как только положил телефон на стол, стала спрашивать мама: – Игорь, что?
Свирин объяснил. Мама заплакала. Ему хотелось ее успокаивать и не получалось. Сполз на стул, сгорбился. Потряхивало, ноги под коленями стало крутить. При чем здесь ноги? Не бегал, не ходил почти, с чего им ныть? Но вслед за ногами и руки заныли, и в боках. В голове продолжало рваться… Вот так и теряют здоровье, вот так и дряхлеют. Не постепенно, а… Слово, подходящее слово!.. А из-за обстоятельств, таких вот ударов.
Да, это удар. И он, Игорь Свирин, оказался к нему не готов. Всё думал, что родители вечно будут пусть не молодыми, но… но не такими вот.
– А ты чего? Галь? – приподнялся отец на локте. – Чего?
– Не хотят… нас… в больницу, – захлебываясь сухими рыданиями, ответила мама.
Что-то детское было в этом. Детская такая обида. И неудивительно – и ребенок слаб и беззащитен, и старый человек.
– Мама, мама, не надо, – попросил Свирин, тоже сбиваясь на рыдания. – Сейчас приедут. Увезут. Вылечат. Капельница, лекарства… Не надо, мам… Сейчас я еще раз. – Схватил телефон.
Гудки, непременное предупреждение, что разговор записывается, женский голос.
– Это снова из Захолмова…
– Да выйхала машина, господи, выйхала! Ждите!
– Выехала, сказали, – передал Свирин маме. – Значит, скоро.
Мама не могла успокоиться. Но рыдания были совсем тихие, слабые. Утирала глаза и губы платочком. Одним из тех, что обшивала кружевами.
– Да! – встрепенулась. – Ведь это… Там… под столом, – кивнула в сторону комнаты, – в железной коробке… документы. Принеси.
– Потом, мам, – поморщился Свирин: это было совсем уже – как прощание.
– Сейчас надо… Неси…
Откуда у них появилась эта коробка, он не помнил. Старых, с до революции, вещей больше не было. Только эта коробка из-под карамели. «Карамель. Высшiй сортъ»… Мама за ней ухаживала, когда краска на выдавленных на жести цветочках обшелушивалась, подновляла гуашью или чем-то подобным.
В коробке когда-то хранились открытки, письма, а теперь разные документы, квитанции за свет, земельный налог.
Свирин отодвинул тарелку с едой, поставил коробку перед мамой.
– От… открой… Достань.
Открыл, достал какие-то бумаги, вложенные в файл.
– Не то… Дальше… Вот. Это…
Вынул из шуршащего целлофана стопочку сложенных пополам листов. «Свидетельство о государственной регистрации права», «Договор купли-продажи земельного участка», «Межевой план»…
– Если с нами что… Наследство… оформи… Только, сынок… – Снова стали рваться рыдания. – Не продавай дом… Не продавай!.. Обещаешь?
– Конечно! – ответил Свирин торопливо, опережая тот миг, когда перед глазами возникнет картина безлюдной избы, заросшего сорной травой огорода, пустой собачьей будки… Несколько минут назад он заклинал кого-то, что-то: весной всё будет так, как было год назад, двадцать лет назад, тридцать… А теперь словно услышал, что заклинание не поможет.
Нет, всё будет нормально. Сейчас приедут, заберут, вылечат. Да. Да.
– И деньги еще… В верхнем ящике… В конверте…
– Хорошо, мам.
– Хлеб через день… привозят. Не пропусти. Чтоб в магазин… не ходить.
Свирин повторял:
– Хорошо. Хорошо.
– Что… еще?.. – Она сдвинула брови. – А… в теплице… там под брезентом… капуста мелкая… Собаке кроши… вари… ей тоже витамины… нужны.
Захотелось заскулить, расплакаться от этой ее заботы о витаминах собаке в такой момент, когда сама еле-еле, «чуть тепленькая», как говорила их соседка из дома напротив тетя Валя. Умерла в позапрошлом году.
– И ты тоже… питайся хорошо… Полный холодильник… А!.. А с работой как? – нашла мама новый повод для беспокойства. – Сможешь здесь… пока?
– Смогу, мам, смогу. Сколько надо, столько и буду.
– Спасибо, сынок…
– Я покурю? А ты, может, поешь. Разогреть?
Мама шевельнула рукой: не надо, не до еды.
Свирин приоткрыл дверь в сени, услышал за спиной:
– Шапку-то!..
Обычно хмыкал, говорил, что всё нормально. Но сейчас послушно снял с полки над вешалкой свою меховую кепку-жокейку. Вышел.
Закурить получилось не сразу – руки дрожали. Хотелось думать, что от холода. И изба не прогрелась, а здесь, в сенях, вообще колотун. Зима, почти зима.
На двор выходить не стал. Стряхивал пепел в большую стеклянную пепельницу. Отец ею пользовался, и сейчас в ней лежала пара старых, посеревших бычков. Наверняка последние