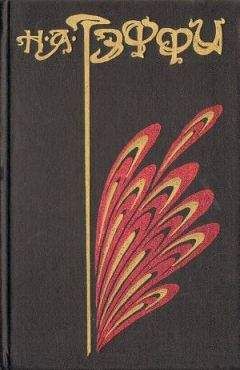– Чего же это они, сумасшедшие, что ли?
– Колонисты. Тут подальше на нашем берегу – немцы-колонисты.
– До своих утекает, – сказал один из парней. – До немцув.
– До своих, пся крев! – прибавил другой и вдруг рассмеялся. – Ага-а!..
Вдали с берега над кротовыми кучками вздулся дымок. Щелкнуло, брызнула вода около лодки. И сразу – еще дымок. И вдруг лодка изменила свои очертания. Ниже стала. Это сидевший на веслах мужчина нагнулся.
– Чего же он?
Видно, как суетятся в лодке, и вдруг остановилась лодка, закачалась, закружилась. Но потом снова наладилось.
– Женщина весла взяла.
Да, да. Можно разглядеть: женщина гребет. И все туда, на ту сторону.
– Неужели и ее пристрелят?
– А и очень просто, – заметил солдатенок. – Наверное, что они какие-нибудь планты везут!
Но над кротовыми кучками тихо было. И лодка подплывала к тому берегу.
– Глянь! Глянь!
И вот над немцами с шершавой паханой полоски вздулся дымок.
– Это чего же?
Лодка точно пустая. Только две маленькие фигурки сидят тихо рядом.
– Чего же они палили-то?
– А шут их знает. Может, думают, шпионы…
– Пся крев!
Лодка повернулась боком, тихо закачалась, опять повернулась и, медленно кружась, поплыла вниз по реке. А дети сидели тихо.
– Господи! Ведь утонут они!
– Може, пониже их кто переймет. Там деревни есть. Тихо сидят.
На повороте реки, где узкой полосой желтеется песчаная коса, лодка приостановилась, словно задумалась, и тихо примкнула боком к берегу.
Дети закопошились. Вылезли. Видно было, как поднимали руки, должно быть, кричали, но слышно не было. Далеко.
Они метались по берегу. То подбегут к лодке, то снова отбегут. Махали руками, приседали к земле.
– Ишь, быдто зайчата, – сказала один солдатенок.
– Видно, в голос плачут, – прошептал другой.
– Одна-то девчонка – ишь, юбочка. А поменьше – мальчик.
– Я спрошу в деревне, нет ли лодки, – решила Веретьева и быстро зашагала по узкой тропке.
На пункте было тихо. Доктора и сестры еще спали, сморенные суточной спешной работой.
Веретьева обошла полуразрушенные избенки. Везде пусто, либо солдаты, что отпущены на отдых из окопов.
– Лодки? – усмехнулись они. – Тут, сестрица не то что лодки, тут чашки деревянной не найдешь, – все пожгли.
Веретьева вспомнила, что сами они опять уже третью ночь в нетопленной избе, и не спрашивала больше.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На другое утро она снова пошла на берег.
Лодка была на том же месте.
Но дети уже не бегали. Они сидели на берегу оба рядом, тесно прижавшись, так что издали казались одним маленьким серым бугорком, и почти не шевелились.
День был тусклый, мертвый. Небо задернулось коричневыми недвижными пленками-дымками, берега ослизлые в талом липком снегу с черными промоинами, и только одна река была живая, но тихая, тугая, неповоротливая.
Вот закурился дымок над немцами. И щелкнуло что-то по камушкам пониже того места, где стояла Веретьева.
Заметили. Стреляют.
Она отошла и, закрытая кустами, повернула назад.
* * *
– Отчего же они, немцы, не пошлют кого-нибудь за детьми? Ведь наши бы не стали в них стрелять?
– Конечно, не стали бы. А они-то, конечно, не доверяют.
– А если бы нам лодку найти?
– Лодки нет. А была бы – все равно не дадут подплыть. Потопят.
* * *
На третий день она не сразу поняла, где дети. Потом рассмотрела. Они перебрались в лодку, сидели рядом и уже совсем не шевелились. Может быть, замерзли?
Или только ослабели от голода и стужи? Такие маленькие! Если в лодке и есть одежда, они не догадаются взять ее. Легли бы, укрылись. Но там, на дне лодки, там ведь два трупа…
На четвертый день пришло солнце; играло с рекой, прыгало искрами, дрожало зайчиками, топило хрупкий снег берегов. И река текла живее, кружилась завитками и ласково булькала.
А на том берегу, где, прильнув, затихла черная лодка, суетились вороны, махались черными тряпками, кружились над лодкой, подлетали боком, копошились в ней и снова взлетали, и снова опускались…
* * *
На пункте спешно работали – отправляли последних раненых.
– Завтра не будет дела. Не станут они стрелять.
– Не станут. Завтра праздник.
– Конечно, не станут. Мы христиане, они христиане.
– Не станут.
Ночью Веретьева проснулась.
Тревожно было. Беспокойно.
Встала. Пошла к берегу. Зачем идет – сама не знала. Потянула тоска и тревога.
На реке был лунный туман, серебряно-тусклый, шевелил над водой дымные тени, и тот берег не был виден.
Веретьева села на камень, охватила руками колени, сидела долго.
«Мы христиане, они христиане…
А там черная лодка. Не вижу ее, но чувствую – там она».
Опустила голову, закачалась от тоски, как от горькой боли.
«Если бы молиться уметь!»
И тихо ответила душа:
«А разве не молитва то, что приходишь ты сюда каждый день и тоскуешь и мучаешься? Не молитва ли это? И разве не ждала ты чуда? Не просила о нем, тихая, несмелая, без слов?»
Подняла Веретьева голову.
– Нет! Нет! Не так молятся!
И опять сказала душа:
«Смотри, не идет ли кто по волнам, туда, к черной лодке? Белая одежда на нем и руки простертые. Кто же может идти так по водам и волнам, кроме Единственного, ходившего?»
– Нет, нет, – ответила Веретьева. – Никого нет: это туман речной.
И опять сказала душа:
«Вот подошел Он к лодке, вот склонился над ней. Разве не видишь ты сияния и света ясного от одежды Его?»
– Нет, нет, это луна так светит.
И замолкла душа, скованная тихим оцепенением. И больше ничего не видела.
На пункте суетились, спешили и бегали. Пришел наказ немедленно сняться с места. В полчаса все должно быть готово, собрано и уложено.
Бегали сестры, толкались, сердились, кричали. Санитары возились над тюфяками, считали носилки. Мелкая соломенная пыль носилась в воздухе.
– Вы где были, сестра? – остановил Веретьеву у входа в избу санитар из семинаристов. – Вас искали.
– Я там, у реки, заснула.
– Ловко! Ну-с, и чего хорошего во сне видали?
– Я видела… Я видела…
Она прищурила глаза, стараясь припомнить. Сдвинула брови, задумалась глубоко и напряженно, но не вспомнила.
– Нет, я ничего не видала. Совсем, совсем ничего.
Открыла двери и пошла в суетню.
Идти пришлось болотом восемь верст.
Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать – все в поле работали.
Вот и пошли болотом.
Тропочка вилась узенькая, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых.
Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было: летом не высыхало и зимой не промерзало.
Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно: узки были скользкие жердочки.
Впереди шла Федосья-рыбачка, баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями.
Очень смешна была на ней опереточная кличка – «рыбачка». Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да язей на пропой к празднику.
Деревенцы завидовали Федосье, считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети.
Федосья шла, легко переступая поджарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по-птичьи головой.
За Федосьей, спотыкаясь и проваливаясь, шел Медикус, толстогубый студент в ситцевой рубахе навыпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара.
За Медикусом – учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый.
Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга.
Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь.
Обеим нравился Медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собою на богомолье именно потому, что он простоватый и стесняться перед ним нечего.
Но теперь, на болоте, вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара.