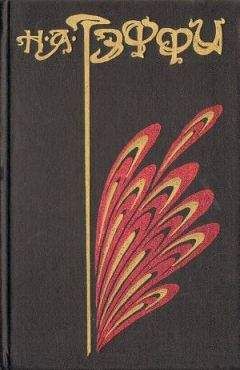– Вот не помню, – шепчет старуха. – Не помню, когда корова именинница… Неловко так-то не знать. Стара стала, забывчива. А грех, коли обидишь…
Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора.
Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая.
– И когда это корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет…
Худо старому человеку! Худо!
Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что, – вспомнить нельзя.
Тихо шуршат забытые рекой камыши.
Ушла река. Камыши забыла.
(Вербная сказка)
Я помню.
Мне тогда было семь лет.
Все предметы были тогда большие-большие, дни длинные, а жизнь – бесконечная.
И радости этой жизни были внесомненные, цельные и яркие.
Была весна.
Горело солнце за окном, уходило рано и, уходя, обещало, краснея:
– Завтра останусь дольше.
Вот принесли освященные вербы.
Вербный праздник лучше зеленого. В нем радость весны обещанная, а там – свершившаяся.
Погладить твердый ласковый пушок и тихонько разломать. В нем зеленая почечка.
– Будет весна! Будет!
В Вербное воскресенье принесли мне с базара чертика в баночке.
Прижимать нужно было тонкую резиновую пленочку, и он танцевал.
Смешной чертик. Веселый. Сам синий, язык длинный, красный, а на голом животе зеленые пуговицы.
Ударило солнце в стекло, опрозрачнел чертик, засмеялся, заискрился, глазки выпучены.
И я смеюсь, и я кружусь, пою песенку, нарочно для черта сочиненную.
– День-день-дребедень!
Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие.
И солнцу нравятся. Оно тоже поет, звенит, с нами играет.
И все быстрее кружусь, и все быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чертик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки.
– День-день-дребедень!
– А-ах!
Разорвалась тонкая пленочка, капает вода. Прилип черт боком, выпучил глаза.
Вытрясла черта на ладонь, рассматриваю.
Некрасивый!
Худой, а пузатый. Ножки тоненькие, кривенькие. Хвост крючком, словно к боку присох. А глаза выкатил злые, белые, удивленные.
– Ничего, – говорю, – ничего. Я вас устрою. Нельзя было говорить «ты», раз он так недоволен. Положила ваты в спичечную коробочку. Устроила черта.
Прикрыла шелковой тряпочкой. Не держится тряпочка, ползет, с живота слезает.
А глаза злые, белые, удивляются, что я бестолковая.
Точно моя вина, что он пузатый.
Положила черта в свою постельку спать на подушечку. Сама пониже легла, всю ночь на кулаке проспала.
Утром смотрю, – такой же злой и на меня удивляется.
День был звонкий, солнечный. Все гулять пошли.
– Не могу, – сказала, – у меня голова болит. И осталась с ним няньчиться.
Смотрю в окошко. Идут дети из церкви, что-то говорят, чему-то радуются, о чем-то заботятся.
Прыгает солнце с лужи на лужу, со стеклышка на стеклышко.
Побежали его зайчики «поймай-ловлю»! Прыг-скок. Смеются-играют.
Показала черту. Выпучил глаза, удивился, рассердился, ничего не понял, обиделся.
Хотела ему спеть про «день-дребедень», да не посмела. Стала ему декламировать Пушкина:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
Стихотворение было серьезное, и я думала, что понравится. И читала я его умно и торжественно.
Кончила, и взглянуть на него страшно.
Взглянула: злится – того гляди, глаза лопнут.
Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю.
Не спалось ночью. Чувствую, сердится он: как смею я тоже на постельке лежать. Может быть, тесно ему, – почем я знаю.
Слезла тихонько.
– Не сердитесь, черт, я буду в вашей спичечной коробочке спать.
Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила.
– Не сердитесь, черт, мне так очень удобно. – Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась.
А он лежал на моей подушечке, как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков.
Я снизала для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете.
Сказала смущенно:
– Это для вас!
Но колечко вышло ни к чему. Лапы у черта были прилеплены прямо к бокам вплотную, и никакого кольца на них не напялишь.
– Я люблю вас, черт! – сказала я.
Но он смотрел с таким злобным удивлением:
Как я смела?!
И я сама испугалась, – как я смела! Может быть, он хотел спать или думал о чем-нибудь важном? Или, может быть, «люблю» можно говорить ему только после обеда?
Я не знала. Я ничего не знала и заплакала.
А вечером меня уложили в постель, дали лекарства и закрыли тепло, очень тепло, но по спине бегал холодок, и я знала, что, когда уйдут большие, я слезу с кровати, найду чертову баночку, влезу в нее и буду петь песенку про «день-дребедень» и кружиться всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться.
Может быть, это ему понравится?
Яркий весенний день. Зеркальный асфальт Берлина звонко отвечает ударами каблуков. Эта узенькая улочка, куда выходит окно моей комнаты, похожа на коридор другого отеля, – так она чиста и нарядна и украшена цветами.
Как раз против меня городская школа.
Скоро начнутся уроки.
То в одном, то в другом окне, обрамленном вьющимися бархатно-оранжевыми цветами, показывается фигура учительницы, – рослой белокурой девушки, совсем еще молодой. Руки у нее, как лапы к породистого щенка, слишком велики по ее росту. Волосы туго свернуты на затылке, юбка прикрыта полосатым передником.
Учительница вытирает пыль с подоконников и поет тонким носовым сопрано популярную сантиментальную песенку:
Das war im
Schoneberg Im Monat Mai.
Поет наивно-убедительно, сама вся розовая, вся свежая и чистая.
А внизу уже собираются дети.
Раньше определенного часа они войти в школу не смеют. Опоздать тоже боятся и поэтому ждут у подъезда.
Плотные, румяные мальчишки рассказывают друг другу что-то деловое, серьезное.
Вероятно, о том, как кто-то кого-то бил, потому что выражение лица у них вызывающее, и сжатый кулак то угрожающе трясется в воздухе, то подъезжает под самый нос собеседника.
Девочки чинно стоят или прогуливаются под ручку мимо подъезда. Две или три тут же вяжут крючком толстые уродливые кружева – свое будущее приданое.
«Das war im Schoneberg», – звенит из бархатно-оранжевых цветов голосок учительницы.
Девочки покачивают в такт гладко расчесанными головками. Придет их время, – и они тоже запоют о том, как сладко целоваться в веселом Шонеберге в зеленый месяц май.
Вдоль улицы, прижимаясь к стенам, медленно ковыляет маленькая темная фигурка. На спине ранец, такой же, как и у всех школьников, но он кажется огромным, он торчит далеко от затылка, потому что мальчик, несущий его, – горбун. Медленно ковыляет маленький калека, подпирая костылем высокое острое правое плечо. Подходя к школе, он движется все медленнее.
Ему трудно, или просто устал, но, кроме того, он как будто боится чего-то. Он так жмется к стене и, на минуту укрывшись за водосточной трубой, вытягивает шею и смотрит на группу детей у подъезда.
Потом вдруг, точно выбрав момент, быстро, насколько позволяет костыль, перебегает через улицу и, притаившись за большим фургоном с мебелью, долго тяжело дышит. Потом, снова вытягивая шею, смотрит на детей и снова прячется. Может быть, он играет и хочет, чтобы дети искали его?
Но он стоит тихо, – так тихо, что потрясающие кулаками деловитые румяные мальчики и озабоченные будущим приданым девочки, по-видимому, и не подозревают о его присутствии.
Но вот смолкает песня о Шонеберге и поцелуях. Звенит острый, тонкий колокольчик, и дети, подталкивая друг друга, быстро выходят в подъезд. Маленький калека, вытянув шею, наблюдает за ними.
Когда закрылась дверь за последним румяным мальчиком, горбун выждал минутку и вдруг решительно заковылял прямо к школе. Он с трудом протиснулся в тяжелую дверь, весь кривой, маленький и испуганный.
В продолжение двух часов с небольшим перерывом из окошек, цветущих бархатистыми цветами, доносился громкий повелительный голос учительницы.
Голос этот, резкий, злой, невыносимый. Голос этот не пел никогда о сладких поцелуях мая, он ничего не мог о их знать, – это мне, верно, послышалось. И снова зазвенел острый колокольчик, и толпа детей распахнула двери подъезда.