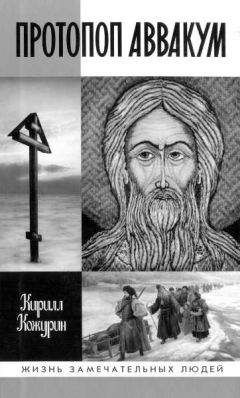В бумаге содержалось предписание: немедленно донести: “действительно ли в проповеди протоиерея Туберозова, сказанной четыре дня тому назад, заключались слова и мысли, оскорбительные для чиновнического и польского сословий”, и притом вменялось в обязанность “немедленно же выслать в губернский город самого Туберозова с посылаемыми за ним жандармами”.
– Кто мог сделать эту мерзость? – воскликнул, прочитав и бросив от себя бумагу, Дарьянов.
– Ей-Богу, не я! Ей-Богу, я и в уме не имел доносить! – закрестился Порохонцев.
– Это больше никто, как Омнепотенский, – воскликнул Дарьянов и сейчас же послал за учителем лошадь.
Варнава, ничего не подозревая, явился, и его нимало не медля взяли под допрос: он догадался, что это термосёсовское дело, но решился не выдать Термосёсова.
Сначала Варнава смутился, но потом, забыв все свое неверие, начал ротиться и клясться, что он никогда этого не делал.
– Да и разве же я в самом деле уж такой подлец, чтобы я стал доносы писать! – говорил он, крестясь в знак свидетельства и отплевываясь.
Но смущение, которое он в себе обличил при первом вопросе, оставляло его в сильном подозрении, и Дарьянов с Порохонцевым решили не отставать от Варнавы, пока он не выскажет, от кого, по его мнению, мог возникнуть этот донос? Варнава вертелся, как прижатая палкой гадюка, но Термосёсова не выдавал. И наконец, категорически отвечал после долгих уверток: я этого не знаю, но хотя бы и знал, то и тогда не сказал бы.
– Почему же бы не сказал бы?
– А оттого, что я не шпион, – потому что это подлость, – отвечал Варнава.
– Что подлость? Разве выводить наружу мерзавца подло?
– Пожалуйста, вы меня на эту дипломатию не ловите. Меня на дипломатию не поймаете.
В комнату неожиданно взошел дьякон Ахилла.
Он еще ничего не знал, но был встревожен по предчувствию.
– В чем дело? – спросил он, входя и окинув присутствующих огненным взором.
– А ты еще не знаешь ничего? – спросил его Порохонцев.
– Ничего.
Городничий подал ему бумагу и сказал: читай! Дьякон пробежал бумагу, бросил ее на пол и, с остервенением схватил за ворот Варнаву, бросил его в угол и, придавив ногою, крикнул:
– Сейчас говори, как ты это сделал, а то раздавлю и буду пыткой пытать.
– Пытка законом запрещена, – пролепетал учитель и хотел приподняться, но Ахилла еще крепче надавил его коленом и проревел:
– Я прежде закона тебя, каналья, замучу!
– Не скажу, – едва прошипел, сокрушаясь костьми под коленом Ахиллы, Омнепотенский.
Порохонцев и Дарьянов старались унимать Ахиллу и убеждениями, и силой, но дьякон отмахивал их от себя, как мух, и, все крепче надавливая Варнаву, назначил ему еще всего три минуты жить, если он не сделает сознанья.
Варнава посинел и закусил зубами язык. Еще минута и уголовное дело было бы готово как следует, но, к счастью, Дарьянов закричал Ахилле:
– Он не виноват! Пустите, – не виноват он!
– Кто же виноват? – дьякон метнулся назад и, выпустив Варнаву, искал, сверкая глазами, виновного. Ахилла был в полном бешенстве. Указать ему на кого бы то ни было в эту минуту значило погубить и его, и того, на кого бы было указано.
– Это надо разузнать. – Это еще пока неизвестно.
Ахилла тотчас же обернулся назад и снова взялся за Варнаву.
– Боже мой, да за что вы меня душите? – заплакал навзрыд учитель. – Ведите меня в суд, если я в чем виноват. Я ничего не знаю.
– Божись! – ревел, встряхивая его за ворот, Ахилла.
– Ей-Богу, не знаю… Вы сами…
– Божись: издохнуть мне без покаяния!
– Издохнуть мне без покаяния, – повторил Варнава и опять заговорил:
– Вы сами столько ж…
– Говори: лопни моя утроба!
– Да постойте, он что-то хочет сказать! – что вы хотите сказать, Варнава Васильич?
– Я говорю, что он… Ахилла Андреич… сам столько ж знает.
– Врешь, – крикнул дьякон. – Я ничего не знаю.
– А вы вспомните лампопό?
Ахилла вдруг выпустил Варнаву и, ударив себя в лоб, вскричал:
– Да! Да! Да! – Термосёс!
– Он? – отнеслись к Варнаве городничий и Дарьянов.
Учитель пожал плечами и проговорил:
– Уж наверно, если на пытке не сказал, так по дипломатии не скажу.
– Говори скорей сам, дьякон; что же там такое было у вас? Советовал что ли что Термосёсов, или научал?
– Да… бяху пето сие, – отвечал в раздумье Ахилла.
Дарьянов и городничий так и всплеснули руками.
– Что же ты молчал до сих пор! – вскричал Порохонцев. – Чего не предупредил?
– Да… я думал это так.
– Тпфу! – Дарьянов плюнул и, хлопнув себя по бокам руками, сказал:
– Вот вам и знайте наших! Один думает, что доносы “так” пишут, а другой от великой честности подлеца бережет.
– И все это кстати, и всему этому так надлежит, – проговорил вдруг неожиданно голос Туберозова.
Присутствующие оглянулись и увидали, что протопоп стоял у окна, облокотившись на палку, и, очевидно, слышал весь разговор, который происходил в комнате.
– Дай мне, дьякон, эту бумагу! – приказал он Ахилле и, пробежав ее тихо, передал городничему и сказал:
– Не спорьте и не пререкайтесь: всего этого я хотел и всему этому надлежало быть.
– Иди, – отнесся он к Порохонцеву, – и делай, не конфузясь, что тебе велено. – Я давно знал, что сего не миную.
С этим Туберозов тихо отошел от окна и пошел к своему дому.
Не успел он сделать десяти шагов, как его быстро догнали Дарьянов и Ахилла; молча они схватили старика под руки, поцаловали эти руки и повели к его дому.
И Дарьянов, и Ахилла тихо плакали, протопоп молчал.
У своей калитки Туберозов крепко сжал руку Дарьянова и прошептал:
– Видишь, сынку, говорил я тебе, не будут надо мною смеяться, и вот так и учредил, что обо мне удобнее будет плакать. “Опасное положение” отныне в союзе со мною.
– Батя! – вмешался, расслышав последние слова, Ахилла. – Если что опасно, – скажи мне: их двое приехало, а я весь город соберу и…
Но Савелий живо прекратил речь дьякона, положив на уста его палец, и кротко сказал ему:
– Не читал разве ты писанного, что без воли Его ничего не сотворится? Не вынимай меча, да не мечом и погибнешь.
Городничий прислал Туберозову сообщить, что он может оставаться дома до самого вечера и поедет, когда уж стемнеет.
– Да; во тьме это лучше, – отвечал старик и, послав Порохонцеву свою душевную благодарность, заперся дома с женою и наказал, чтобы его никто не беспокоил.
День сгас, и над городом стала ясная, лунная ночь. Туберозов все еще прощался с женою в глубокой тайне. Около дома его собралась толпа, но никто, ни любопытство, ни дружба, ни любовь не нарушали великих минут разлуки. Все, кто пришли проститься с протопопом, ждали его на улице или на крыльце.
И вот дверь дома растворилась, и из нее вышел совсем готовый в дорогу Туберозов. Наталья Николаевна с ним: она идет возле него, склонясь своею головой к его локтю.
Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единой слезою.
Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел.
Туберозов поднял вверх руку и послал толпе благословение.
Гомон затих; шапки слетели долой, и люди стали креститься.
Из-за угла тихо выехала спрятанная по распоряжению городничего запряженная тройкой почтовая телега. На облучке ее, рядом с ямщиком, один жандарм, другой с кожаною сумкою на груди стоит у колеса и ожидает пассажира.
Туберозов сходил, приостанавливаясь почти на каждой ступеньке и раздавая благословения. Но вот и он у того же колеса, у которого ждет его жандарм. Вот он поднял ногу на ступицу, вот и взялся рукою за грядку, – жандарм подхватил его рукою под другой локоть… Туберозов отбросился, вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у игрушечной куклы, у которой голова посажена на проволочной пружине; словно зажевал что-то не только неудобопереваримое, но даже и неудобопережевываемое.
– Отец Савелий! – крикнула ему, не выдержав, Наталья Николавна.
Протопоп оправился на телеге и оглянулся на жену.
Наталья Николаевна подскочила к нему, схватила его руку и прошептала:
– Все ничего: но только жизнь свою, жизнь свою пощади, Бога ради!
Протопоп молчал: ему мнилось, что жена его слышит, как в глубине его души чей-то не зависящий от него голос проговорил: “теперь жизнь уж кончилась и начинается житие”.
Туберозов благоговейно принял этот глагол, перекрестился на освещенный луною крест собора, и телега по манию жандарма покатила, взвилась на гору и исчезла из виду.
Народ постоял и начал безмолвно расходиться. Ворота и калитки запирались на засовы, и месяц, глядевший на Старый Город с высокого неба, назирал уже одну Наталью Николаевну.
Она не спешила под кровлю, да и что ей там было под ее осиротелой кровлей? Она сидела и плакала на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж, и ей теперь точно так, как ему, тайный голос шептал: что “жизнь его кончена и начинается его житие”.