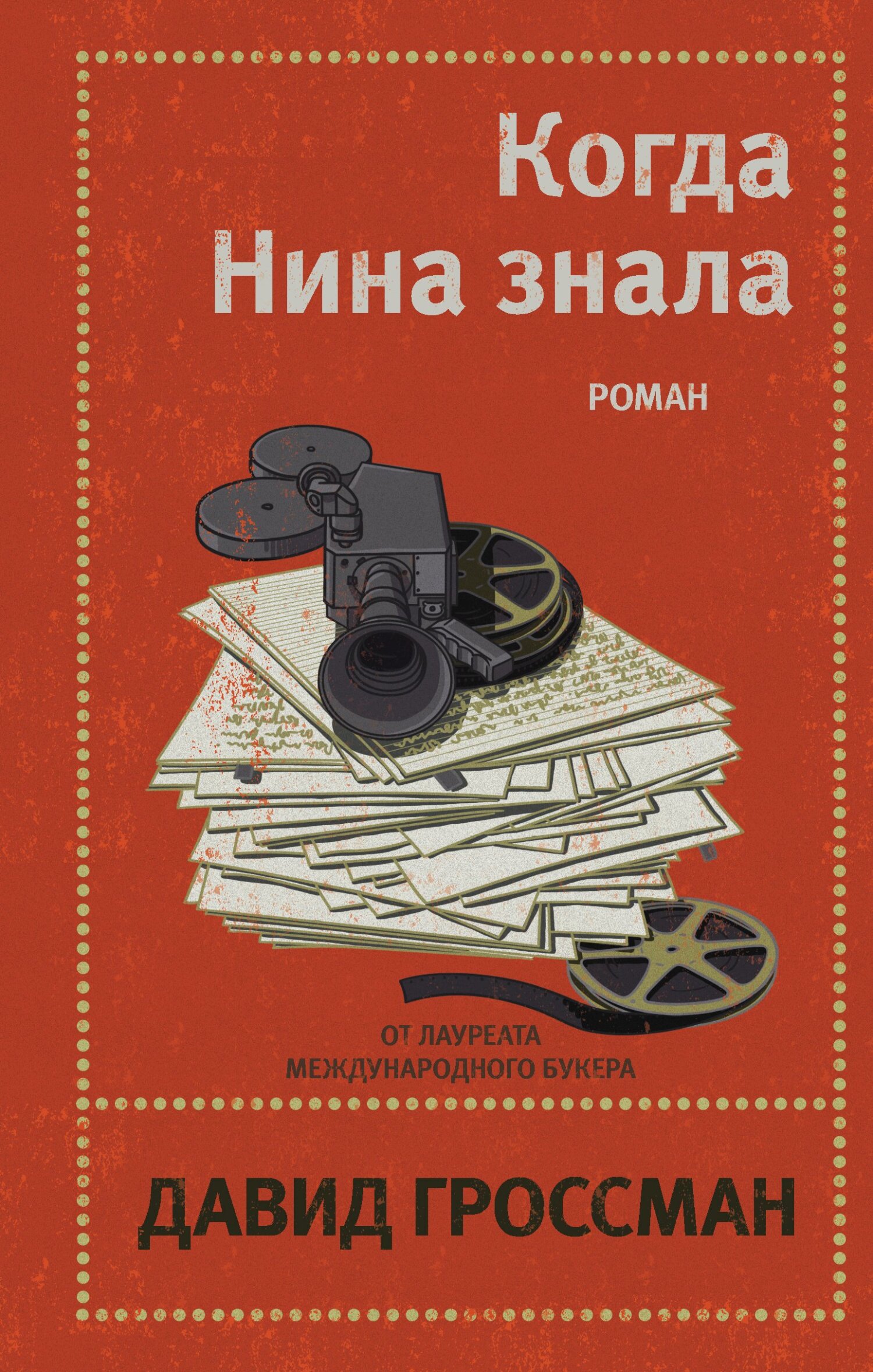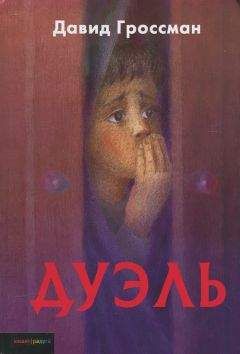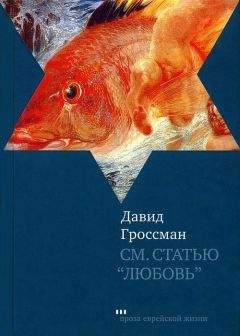от боли. Снимать он перестал. Я даю ему знак продолжать.
Тут есть голоса, которые послужат мне войсовером [45], и есть рассказ Веры.
«И вот я отправилась вместе со свекром и свекровью, родителями Милоша, – они приехали из своей деревни на лошади с телегой и с гробом, который сами сколотили, и моя свекровь соткала красивый яркий ковер килим [46]. Приехали мы на кладбище неизвестных. Искали, пока не нашли его, под номером 3754, и я мотыгой скинула камень, что на нем, и тут же узнала его по зубам и по челюсти, той, из-за которой все всегда думали, что он улыбается. Нашего обручального кольца у него не было. – Разговор ее стал прерывистым, слово не вязалось со словом. – Там были кости, и куча листьев, и слякоть. Я все это с него счистила, положила его в простыню, отнесла в телегу, положила в гроб на килим, и так мы отправились в деревню. За всю дорогу слова друг другу не сказали. Может, через час поездки моя свекровь говорит: «Из чего ты, Вера, сделана, из железа или из камня?» А я про себя подумала, что из любви к Милошу, но не сказала ничего. И больше мы не разговаривали, пока не приехали и пока не положили его в землю его деревни. Я была обязана это сделать. Не могла оставить его под номером. И еще я знала, что кроме меня этого не сделает никто. А так у Милоша есть могила с именем, которую Нина сможет посещать, и Гили тоже, если захочет. И Гилин мальчик или девочка, которые, может быть, у нее когда-нибудь будут. Я была обязана это сделать, чтобы все в мире знали: был такой Милош, был такой человек – худой и больной, и телом не силач, но с душой героя и идеалист, и человек самый чистый и глубокий на свете, и мой друг, и моя любовь…»
Когда нам было уже невмоготу и мы решили выйти на Нинины поиски, она вернулась. Ввалилась внутрь, мокрая, замерзшая, с трудом держащаяся на ногах. Мы кинулись к ней, закутали ее в одеяло, принялись в шесть рук растирать ей спину, и грудь, и шею, и живот, и ноги. Каждый из нас что-то ей пожертвовал: сухие носки, кофту, шарф. Она стояла среди нас с закрытыми глазами, дрожащая, почти валящаяся с ног. Я теплым дыханием дула на ее ладошки, на ее длинные, тонкие пальцы, стала массировать сзади ее шею и плечи. Рафи со страшной силой ее месил. Я видела, что ей больно, но она слова не сказала. Он молча глотал слезы.
Потихоньку она в наших руках оттаяла. Открыла глаза.
«Поплачь, – тихо сказала она Рафи, – поплачь. Есть по чему».
Я пишу это через восемь лет после той самой ночи. Я пытаюсь представить себе, что с ней было, когда она оказалась в одиночку за пределами барака. Я вижу, как она быстро идет, а потом бежит, поднимается и спускается по тропам брошенного лагеря, входит в бараки, бежит к берегу, трогает черную воду и возвращается на поле с валунами. Она знает здешние повороты, может быть, лучше, чем в любом городе и доме, в которых проживала и оставила их или сбежала из них. Дом ее здесь, это ясно. Дом в преисподней. Но ему отданы все годы ее тоски, и молений, и обид. Сюда заложена ее душа. Здесь, так мне кажется, была Нина, когда ее не было.
Она устает. Идет под дождем и уже к нему безразлична. Спотыкается о камни и встает. Снова и снова бормочет Верины слова: «Что я могла им отдать, чтобы не предать твоего папу?» – «Меня, – задыхаясь, говорит Нина. – Меня она им отдала, чтобы не предать папу». Каждый раз эта мысль прошибает ее, как удар током. Непереносимая боль скручивает все тело, до кончиков пальцев. Она снова бежит. Не в силах устоять на месте. Конечно, Вера и себя им отдала. Почти три года каторжных работ и пыток. «Но меня она принесла в жертву», – бормочет Нина, пробует на вкус эти слова, и я вместе с ней. Внезапно мы с ней вместе там, за бараком. И обе уносимся бурей как два листка, брошенные девочки, горькая кровь которых никогда не загустеет. «Она могла выбрать, – кричит Нина ветру, – они предложили ей сделать выбор, и она выбрала, выбрала свою любовь, и я это знала, кожей своей ощущала. Я не сумасшедшая. Я знала».
Я представляю себе, как она вдруг застопорилась, остановилась. С изумлением огляделась вокруг, как новорожденный, попавший в совсем не тот мир.
На секунду остров возродился. Будто с ревом включили огромные прожекторы, и все затопило светом. Женщины в тюремных робах бегут, кричат, воют от боли на допросах. А то вдруг смеются. Иногда даже перешучиваются с надзирательницами. Выкрики приказов, и громкоговорители, и удары хлыстом, и женские хоры, распевающие гимны во славу Тито.
Когда Вера возвращается в барак после допроса, Нина занимается ее ранами. Когда надзирательницы заставляют Веру ночь напролет стоять у «параши», ведра, в которое заключенные отправляют свои нужды, Нина стоит рядом с ней. Когда Вера колет поленья, привезенные им на остров для отопления и строительства, Нина бежит за гусиным жиром, чтобы смягчить ей горло. Остатком жира они тайком смазывают губы, потрескавшиеся от сухости и холода.
«Будь бы я лет на тридцать помоложе, – сказала Нина после того, как мы закончили растирать, массировать и размораживать ее, – я бы от этого дождя забеременела».
Мы осторожненько посмеялись. Не очень-то поняли. Из всех вещей в мире именно это выбрала нам сказать? Она смотрит на меня. Улыбается. «Ужасно проголодалась. Умираю с голода».
Я дала ей последнее яблоко и несколько рисовых лепешек. Вера порылась в своей сумке и достала для всех бутерброды, один бог знает, когда она их приготовила, откуда знала, что нужно их придержать до этой минуты. Мы их тут же умяли. И похохотали над собой и над собственным голодом. Нина смеялась вместе с нами. Ее глаза сияли. Что с ней случилось снаружи? Я так и не смогла понять. Она другой человек, так я почувствовала. Что-то в ней изменилось, в мгновение ока распуталось.
Потому что все здесь вдруг стало открытым, обнаженным, сильным. Ее глаза сияли. Я не увидела в ее лице ни гнева, ни желания отомстить. Я искала. Ни злобы, ни обиды. Я увидела огромное облегчение, просветление.
«Ой, – сказала она ртом, набитым моцареллой и помидорами, – какой чудненький бутербродик!»