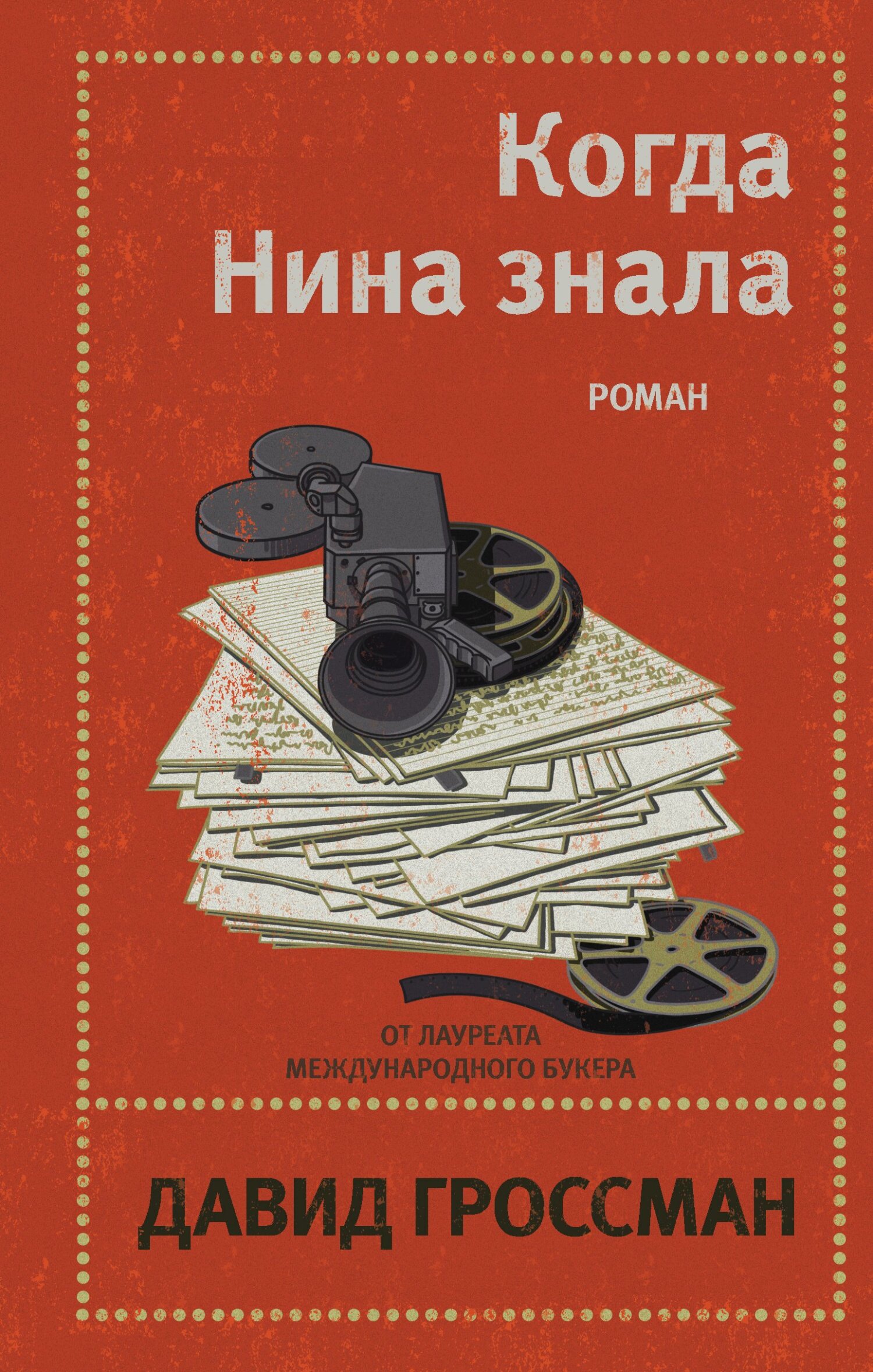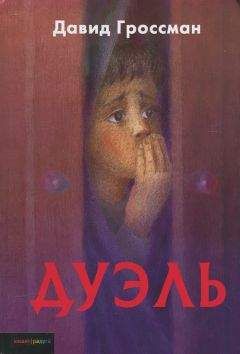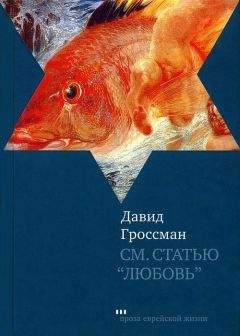все, что с ней случилось из-за меня».
Она это сказала. И Рафи заснял.
«Враги народа! – Вера с яростью хлопнула себя по бедру. – Что бы я им подписала, что мы были сталинскими шпионами? Что хотели убить Тито? Лжецы!» На стене над головой Рафи выгравированы слова: CON TITO. Вера показывает подбородком: «С Тито построим социализм!» А как же! У меня в заднице!»
«И ты им не подписала…» – бормочет Нина и вдруг выглядит совершенно обескровленной.
«Как я могу подписаться под чем-то, что не является правдой?»
«Да подпиши ты им наконец! – снова шепчу я про себя. – И все мы вернемся домой, закроем ставни, устроим траур по Милошу и по нам самим, и все вместе, потихоньку исправим то, что еще возможно исправить».
Нина вылезает из-под одеяла. Вера наваливает на себя еще и еще складок. Нина встает перед ней на колени, держит ее руку в своей руке. «Но ведь папа был уже мертв… – Голос у нее снова тонкий, дрожащий. – И если, допустим, ты бы попыталась, скажем… им предложить… может, они бы… нет, это идиотская мысль». Она слабо улыбается. Прямо на наших глазах она отступает, превращается в выцветший черновик самой себя.
«Но иногда, мама, я думаю…»
«Думаешь что, Нина? Выскажи вслух, не оставляй это внутри».
«Почему ты так сердишься, мама?» – Голос глухой.
«Я не сержусь, Нина. Просто у меня от этих разговоров лопается голова. Как будто меня снова допрашивают».
Нина сидит на холодном полу, рассеянно поглаживает одеяло, которое прикрывает миниатюрное Верино тело. «Никто тебе допроса не устраивает… к чему тебя допрашивать? У кого вообще есть право тебя допрашивать… Никто не прошел через то, через что прошла ты».
«Нет, Нина, ты не понимаешь, все наоборот! Допрашивай, спрашивай все что хочешь. Это хорошо. Мне нужно высказаться».
«Но ты пойми, я тебя не допрашиваю. Просто пытаюсь что-то сделать… понять, малость исправить задним числом».
«Задним числом ничего исправить невозможно. Это ты уже и сама знаешь».
Нина смотрит на меня, а я на нее.
«Что было, то было, – бормочет Вера. – И с тем живем».
«Но допустим, мама… я просто спрашиваю, если бы они все же, например…»
«Что ты подумала, говори прямо, Нина».
«Нет, я просто подумала: если бы они…»
«Что, что бы они мне предложили? – горько кричит Вера и стучит кулаком по своему бедру. – Что я могла им отдать, чтобы не предать твоего папу? Чтобы не дать им вымазать его в дерьме, чтобы им доказать, что я говорю правду? Что я вообще могла им отдать?»
Молчание. Вера с Ниной смотрят друг на друга истерзанными, потрясенными глазами. Кончиками нервов я ощущаю, как их несет к слепой, потонувшей во мраке точке, которую только они сами способны увидеть в глазах друг у друга.
«Уф!» – издает Нина странный звук, легкий как перышко, будто где-то там, внутри, что-то с невыразимой мягкостью встало на место.
«Голова», – бормочет Вера и обеими руками сжимает виски.
Нинины глаза закрываются, и голова падает назад. Тонкие веки мигают с угрожающей скоростью. Будто она в мгновение ока погрузилась в сон, глубокий, абсолютный и полный видений. И во сне кто-то медленно проводит ей рукою по лбу.
И тут она открывает глаза. «Нет, я обязана отсюда выйти».
«Там дикий ливень, – говорит Рафи. – Я пойду с тобой».
«Нет-нет, никто со мной не идет! Мне нужно побыть одной. Вдохнуть воздуха. Я обязана вдохнуть воздуха. Скажи мне только одну вещь». Она встает, бесцельно носится по комнате, и я не могу не подумать про курицу с отрезанной головой, какой я ей желала стать. Как я могла быть такой жестокой!
«Скажи, мама, – почти кричит она, – а нельзя было хотя бы их попросить, чтобы разрешили взять меня с собой?»
«Что?»
«Нельзя было попросить, чтобы мне разрешили поехать с тобой?»
«Куда?»
«Сюда, на Голи».
«Чтобы я попросила у УДБА взять и тебя тоже? Ты спятила? Здесь, на острове, в жизни не было ребенка! Да я бы и сама ни за какие сокровища не взяла тебя в этот ад!»
«Но зато мы бы не разлучались», – говорит Нина и идет к выходу.
«Что?»
«Так бы мы в жизни не разлучались».
«Как это?»
«Потому что были бы вместе, здесь».
«Но с какой бы стати они согласились… Этого не могло быть, Нина, нет, это не… на Голи детей вообще не брали».
«Я знаю. Я про Голи все книги прочитала».
«Я даже в воображении не хочу представлять, что ты бы… это для меня самое страшное. Еще страшней, чем то, что я сама здесь побывала. – Она в ужасе смотрит на Нину. – Я снова обязана тебя спросить и ответь мне честно, Нина, и без экивоков: тебе было так плохо у моей сестры и ее мужа, что ты бы лучше спустилась в эту преисподнюю?»
«Ты правда не поняла, а?»
«Я знаю, как они к тебе относились, но…»
«Это с ними вообще не связано».
«Нет?»
«Все время, каждую минуту, что тебя со мной не было, я хотела быть с тобой».
«Даже если бы меня убивали, Нина, я бы у них не попросила…»
«Вместе с тобой я спустилась бы даже в Шеол [44], – шепчет Нина, стоя на выходе из барака, – только чтобы быть с тобой каждый день и каждую ночь. – Она нащупывает рукой дверь, которая висит на одной петле. – Я думала только об этом. Быть с тобой, быть с тобой».
Вера склоняет голову. Это выше ее сил.
«За мной, пожалуйста, не ходить», – говорит Нина и выходит.
Воздух будто втянуло, и он вышел вместе с ней.
Нечем дышать.
Дождь и ветры безумствуют, словно им скормили новую добычу.
«Она не хочет знать, – говорит самой себе Вера, – она не хочет знать».
«Я выхожу».
«Папа, нет. Ну пожалуйста! Дай ей побыть одной».
«Еще что-нибудь с собой сделает», – бормочет Вера.
Мы с Рафи сидим на мокром бетонном полу, каждый в своем углу. Я с ума схожу от страха за нее.
И вдруг Вера говорит: «Они похоронили его под номером на кладбище под Белградом, и я, когда вернулась с Голи, писала письма Тито, чтобы дал мне похоронить моего мужа. Может, двадцать писем ему написала, и в конце концов Тито спросил Моше Пияде, своего заместителя, еврея, кто, мол, эта женщина, которая не боится Тито? Отдайте уж ей наконец ее мужа, но пусть все сделает сама».
Всякий раз, когда гром или новый поток дождя обрушиваются на барак, лицо Рафи искажается