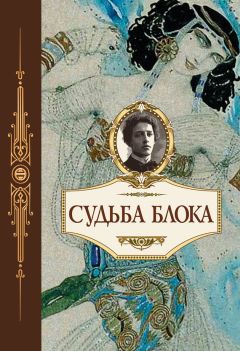А сердце холодно, как камень!
Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?
И в них обман, а не душа живая?!
Не может быть!
Он давно не сомневается в том, что Некрасова считают холодным, черствым, расчетливым дельцом, лишь на словах проповедующим любовь. Добрый Неизвестный хочет видеть в его поэзии подлинную живую душу, а в суровой холодности - внешнюю, обманную оболочку. А что если друг неправ?
Способен ли человек знать сам про себя, что в нем суть, а что оболочка? Некрасов, прославивший в стихах Комиссарова и Муравьева, может ли защищаться? Ведь и в самом деле стих его опозорен: в оде Комиссарову, в мадригале Муравьеву - "обман, а не душа живая..."
Но если прав ужасный приговор?
Скажи же мне, наш гений, гордость наша:
Ужель сулит потомства строгий взор
За дело здесь тебе проклятья чашу?
Ужель толпе дано тебя язвить,
Когда весь свет твоей дивится славе,
И мы сказать в лицо молве не вправе
Не может быть?!
Скажи, скажи: ужель клеймо стыда
Ты положил над жизнию своею?
Твои слова и я приму тогда
И с верою расстануся моею.
Но нет! И им ее не истребить!
В твои глаза смотря с немым волненьем,
Я повторю с глубоким убежденьем:
Не может быть!
Она - это несомненно она - ждет ответа, который бы развеял ее сомнения. Но ответить он не может, очиститься перед нею от вины не может, потому что вина его неизгладима. Враги правы: он слаб, покрыт позором. Несколько раз Некрасов принимался за ответ, который был бы ответом не только ей - всей России. Но что он мог сказать, как оправдаться?
Весь пыткой нравственной измятый,
Уже опять с своим пером,
Как землекоп с своей лопатой
Перед мучительным трудом,
Он снова музу призывает...
Муза молчит - она не находит никаких слов для оправдания. Разве только одно: его вина порождена темным временем, породившим и его самого, с его барством, страстью к азартной карточной игре, к богатству, и его поэзию.
Чего же вы хотели б от меня,
Венчающие славой и позором Меня?
Я слабый человек,
Сын времени, скупого на героя.
Я сам себя героем не считаю.
По-моему, геройство - шутовство...
Продолжать он не стал - в этих строках все было сказано, но вовсе не то, чего от него ждет Неизвестный друг. Только зимой 1867 года, возвратясь в Петербург, он наконец найдет в себе силы ответить. Он создаст изумительное стихотворение, которое вынашивалось почти полтора года и в котором сведены воедино мысли поэта о себе, своем призвании, своих слабостях, винах и заслугах:
Посвящается неизвестному другу, приславшему мне стихотворение
"Не может быть"
Умру я скоро. Жалкое наследство,
О родина! оставлю я тебе.
Под гнетом роковым провел я детство
И молодость - в мучительной борьбе.
Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая - навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины.
На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след.
Как мало знал свободных вдохновений,
О родина! печальный твой поэт!
Каких преград не встретил мимоходом
С своей угрюмой музой на пути?..
За каплю крови, общую с народом,
И малый труд в заслугу мне сочти!
Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука... Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,
Но где они, друзья мои, теперь?
Одни давно рассталися со мною,
Перед другими сам я запер дверь;
Те жребием постигнуты жестоким,
А те прешли уже земной предел...
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..
Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом
И для нее не жертвовал собой,
И песнь моя бесследно пролетела,
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!..
Эта исповедь посвящена Неизвестному другу, но обращена к России. И если Ольга Мартынова, автор того стихотворения, прочитала некрасовский ответ на свое "Не может быть", она испытала глубокое потрясение: ее голос оказался для Некрасова голосом родины. Некрасов не соглашался с ее "не может быть". Нет, это может быть, ответил он. Потому что он был слаб и робок, внутренне опустошен и внутренне - раб. Он порой исторгал из своей лиры "неверный звук" и теперь остался в немыслимом, безнадежном одиночестве. Он был неспособен на героическое самоотвержение и, привязанный к "минутным благам" своего барства "привычкой и средой", не выполнил своей миссии. А миссию эту поэт определил с поразительной точностью:
Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
Это было задачей Некрасова-лирика.
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет...
А это - задачей Некрасова-просветителя, издателя "Современника", соратника Белинского, Добролюбова и Чернышевского.
Всего этого он, как ему казалось, не выполнил. После него остается "жалкое наследство", "малый труд" - "песнь... бесследно пролетела, / И до народа не дошла она". И оправдывает его только одна любовь к стране и народу. Только за одну малость может простить его родина: "За каплю крови, общую с народом..."
Трудно поверить, что именно эти слова - слова предельной, небывалой искренности - вызвали шквал издевок. Максим Антонович, прежде соредактор "Современника", опубликовал в 1869 году книжку-пасквиль на Некрасова,- и сколько раз поминал эту каплю крови, с каким озлоблением!
Говорит Максим Антонович:
Он думает о себе, что он до того усердно воспевал русский
народ, что на пальцах у него выступила "капля крови"... За эту
"каплю крови" он вправе требовать себе индульгенции за разные
гражданские грешки, и тем более, как он сам говорит, что, во-1-х,
он не получил в детстве хорошего воспитания, во-2-х, не имеет
друзей и "ни в ком не находит опоры", и, в-3-х, любит "блага
жизни". Всякий снисходительный и гуманный человек признает всю
силу и основательность этих прав г. Некрасова на
снисходительность и прощение.
Спорить с М.Антоновичем из XX века бессмысленно - Некрасов и его поэзия себя отстояли в противоборстве с противниками и временем. Соредактора по "Современнику" Максима Антоновича опроверг в ту пору другой соредактор, Григорий Елисеев, чьи слова надобно привести, и тогда возникнет драматический диалог.
Говорит Григорий Елисеев:
Известна древняя пословица: "Ты сердишься, Юпитер,
следовательно, ты неправ". Гомеопатические дозы истины [...]
теряются [...] в таком обилии инсинуаций, сплетен, кривых
толкований, извращающих смысл фактов, предсказываний и различного
рода произвольных соображений и измышлений, что стирается всякая
грань между истиной и ложью [...] всюду выступает лишь сила
личного раздражения, преследующая одни личные цели и расчеты,
которая при этом не пренебрегает никакими средствами для
сокрушения своих противников, даже и доносом.
Это относится ко многим ненавистникам Некрасова, нападавшим на его "ренегатство" и на его исповедь, издевавшимся над словами "капля крови",- к Щербине, Минаеву, Каратыгину, даже Фету. Среди них всех особое место занимал Иван Худяков, молодой революционер-каракозовец, погибший в Сибири. В своей автобиографии (вышедшей в 1882 году посмертно) Худяков написал уже приведенные прежде слова о подлом поступке Некрасова и о том, что лучше бы он построил виселицы. И тогда снова и уже во всеоружии своего блестящего публицистического таланта выступил Григорий Захарович Елисеев.
Говорит Григорий Елисеев:
...На руках у Некрасова было большое публичное дело, гораздо
большее, может быть в десять, во сто раз большее, чем
каракозов-ское. Мы разумеем дело расширения и упрочения за
прессою свободного слова, с целью дать возможно широкое
распространение в обществе новой идеи. Из всех писателей 40-х
годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался
ей вполне и сделался неизменным носителем и служителем и остался
таким до конца жизни... На это посвятил он весь свой громадный
талант...
Теперь, с назначением Муравьева обследователем по
каракозовскому делу, наступил момент, когда все это ставилось на
карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать