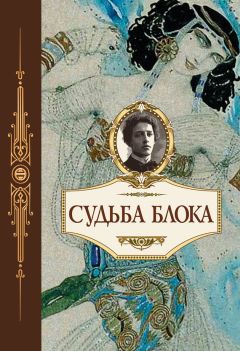озлобленный Муравьев, которого тогда покойный царь выходил
встречать на крыльцо, когда Муравьев ехал к нему с докладом... И
вот для умилостивления этого чудовища, которое было способно и
готово пожрать всю новую литературу и остановить движение новой
идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое
самолюбие, написав в честь Муравьева и прочитав публично в клубе
стихотворение...
...Жертва, принесенная Некрасовым чудовищу, была, по нашему
мнению, не только вполне законна, но и необходима,- и
необходимость ее, наверное, будет выяснена для всех историей
нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик,
чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться
равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем
поступке... Даже перед смертью, мучимый страшной болезнью, едва
дышащий и говоривший, он не переставал приносить в нем покаяние.
Так давила его и мучила жертва, принесенная им в пользу своего
великого дела.
Кажется, во всей мировой поэзии нет произведения более трагичного, чем исповедь Некрасова Неизвестному другу. Поэты исповедуются часто, но можно ли поставить рядом с этой некрасовской песнью еще одну столь же бесстрашную и беспощадную исповедь? Некрасов имел все основания вслед за Горацием, Ломоносовым, Державиным, Пушкиным сказать: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." А сказал он, что был рабом, что продавал свою идею, что "к цели шел колеблющимся шагом", что был неспособен на геройство, что черствел с каждым годом, что народ не принял его поэзии.
Все это было беспредельно искренно и все это оказалось заблуждением. Некрасов умер столетие назад, незадолго перед смертью горестно повторив:
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал.
Но уже над гробом его прозвучали чьи-то строки, выражавшие скорбь народа:
...будешь жить ты в памяти народной,
Навеки сохранишься в ней,
Поэт могучий, гений благородный
И слава родины твоей!
Достоевский же, поставив Некрасова в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым, в своей надгробной речи говорил о том, что "это было раненное сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли..." Протекшее с той поры столетие подтвердило справедливость этих слов.
Хорошо знавшая и любившая Некрасова Екатерина Павловна Елисеева кончила свои воспоминания словами, обращенными к поэту:
"Мир праху твоему! "За каплю крови, общую с народом", нам не простить, а завидовать тебе должно".
Звание человека
"...только влюбленный
Имеет право на звание человека."
Александр Блок, 1908
"В женском концентрационном лагере
Равенсбрюк было убито 92 700 женщин и
девушек почти из всех европейских
стран."
"СС в действии.
Документы о преступлениях СС", 1958
В лагерь Равенсбрюк, севернее Берлина, Софья Владимировна Но-сович была доставлена осенью 1944 года. Слухи об этом "женском аде" доходили до нее и прежде, она представляла себе картины, от которых леденела в жилах кровь, но увиденное превосходило воображение. Нары, на которых узницы спали по трое, многочасовое неподвижное стояние строем на пронизывающем ветру, мириады насекомых, разносивших тиф по гнилым, промозглым баракам, бесконечный рабочий день, после которого женщины едва добредали до своих нар... А надо всем этим - запах горелого мяса: его приносило в лагерь каждое дуновение ветра; крематорий действовал круглые сутки. У Софьи Носович был запас молодой энергии, но он иссякал; еще недавно несокрушимый оптимизм сменился бешеным отчаянием, а потом пришло равнодушие - к настоящему и будущему, к жизни и смерти, к живым и мертвым. Из трубы крематория валил смрадный дым, никуда от этого не уйдешь,- не завтра, так послезавтра. Вспоминать о прошлом? Слишком горько. В прошлом осталась ее, русской аристократки, сенаторской дочери, борьба во французском подполье, дружба с Верой Оболенской, военный трибунал в Аррасе, приговоривший их обеих к смертной казни. Женственная Вера, Вики, на допросах держалась героически: военный следователь прозвал ее "Принцессой Ничего-Не-Знаю" и выходил из себя от бессилия. Ее прекрасную голову палач отсек 4 августа 1944 года, а Софье смертную казнь заменили каторгой - и вот она в Равенсбрюке.
Участь Вики не лучше ли? Не достойна ли зависти Ариадна Скрябина, которая в ту же пору была убита в стычке с петеновскими милиционерами? Известная в партизанских отрядах под кличкой "Режин", она, дочь великого композитора, из протеста против гонения на евреев приняла библейское имя Сарра. Была надежда, впереди сияла Свобода; даже закованная в наручники Вики, ожидавшая казни в берлинской тюрьме, мечтала о возвращении в Россию, и не только мечтала - сговорилась о встрече в Москве с советской девушкой, оказавшейся в одной с нею камере. Нет уже на свете ни Вики, ни этой прелестной девушки-врача, нет даже Софьи Носович; прозябание в бараке Равенсбрюк - это не жизнь: ожидание смерти. Слишком страшно смотреть вокруг. На краю лагеря темнеет барак "мрака и тумана" - оттуда никто не выходил никогда; содержавшиеся в нем польки, француженки и советские женщины-военнослужащие ("ротармистки" - так называли их эсэсовцы) предназначались для уничтожения. Не смотреть, не думать, не сопротивляться ждать смерти.
Софья перестала есть. Даже те сто пятьдесят граммов хлеба, которые давали в придачу к жидкой, едва теплой похлебке, теперь оставались, даже эти полтора ломтика.
Однажды - было это в ноябре - к ней подошла француженка-коммунистка, с которой Софья была знакома с довоенной поры, и сказала: "Пойди познакомься с матерью Марией. Это необыкновенная женщина". Софья поняла - ее хотят спасти; о матери Марии и силе духа этой русской монахини она слышала и прежде. Как-то на утренней перекличке мать Мария, заговорив со стоявшей рядом русской девушкой, не заметила, как подошла надзирательница; та полоснула ее ремнем по лицу. Мать Мария спокойно договорила начатую русскую фразу. Надзирательница стала хлестать ее по лицу ремнем что было силы, но монахиня ни разу не поглядела в ее сторону - словно ее и не было.
Софье Носович был необходим пример, она пошла в пятнадцатый барак. Наступал темный вечер, четырнадцатичасовой рабочий день был позади. На одной из нар сидела заключенная в рваном подряснике и о чем-то тихо говорила женщинам, которые окружали ее плотным кольцом и заглядывали ей в лицо. Софья прислушалась: монахиня говорила о скором конце войны. "Россию никогда еще никто не побеждал,- уверяла она,- даже Наполеон со своей великой армией не мог ее одолеть. Война в России затянулась, она идет уже более трех лет, немцы выдыхаются, скоро вы увидите своих близких... Все будет хорошо,твердила она, поглаживая по волосам плачущую девушку,- держись, будь твердой. Осталось недолго. Бог не оставит Россию..." Одна из женщин обернулась к Софье, глаза ее сияли. "Знаете,- сказала она шепотом,- если мать Мария так говорит, это наверное правда". Софья подсела к матери Марии на жидкий тюфячок и тотчас сказала о том, что душило ее: страдания, умирание, смерть стали привычны, чувства умерли, дух ее словно закоченел, заледенел, остановился - с этим параличом ничего она поделать не в силах. "Нет, нет,- с неожиданной энергией и силой выкрикнула монахиня,- только непрестанно думайте, в борьбе с сомнением думайте шире, глубже. Не снижайте мысль, а думайте выше земных рамок и условностей". Когда Софья уходила, к ней подошла молодая француженка. "Вы ее видите впервые?- спросила она.- А ведь рядом с ней забываешь каторгу, она заставляет думать о жизни и верить в будущее. Даже про это она умеет говорить!" Жаклин вытянула руку в сторону труб, из которых валил жирный черный дым. "Он такой только вначале, около земли,- сказала мне мать Мария,- а дальше, выше делается все прозрачнее и чище и наконец сливается с небом, а потом растворяется во вселенной, в сияющей вечности, где нет ни смерти, ни страха. Так и в смерти. Так будет с душами".
С того вечера Софья вернулась к жизни. За час до переклички, в четыре утра, она выходила из барака, зная, что встретит мать Марию. Монахиня шла на слабых ногах, едва носивших ее крупное, некогда полное тело, шла, опираясь на плечо молодой русской, Инны Вебстер, и жила вслух: она рассказывала о прошлом, ослепляла собеседниц бесчисленными проектами социального благоустройства. Она не просто надеялась на победу и на завтрашний день, но была преисполнена спокойной уверенности в них. Шел мокрый снег, в ночной темноте дул ледяной норд-ост, узницы знали, что с 13 декабря в их лагере на полный ход работает газовая камера и что газом теперь умерщвляют здесь же, в Равенс-брюке, а мысль и вера матери Марии поднимались и их поднимали над этим адом. Софья узнала ее жизнь. Жизнь? Нет, несколько жизней: труднее всего было понять, как прожила их все одна женщина.