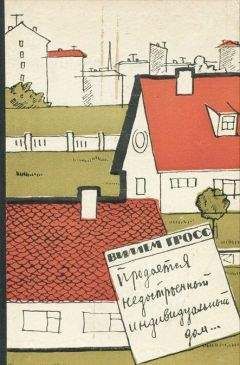- Как же оставлю, - усмехнулся тот. - Эх! Сколько мы тут семечек набросали - поглядите какие девочки набежали вашего друга проводить - небось запомните! А еще какие всходы будут от той сладкой памяти, пока всю эту рабскую трусливую кровь не перебьет... - он налил себе еще водки.
- Ну да, - сказал Лев Ильич, - когда так - разъезжаться нужно, тут не дотолкуешься.
- Вот мы и объяснились - вам направо, а нам - налево, так что ли, Валерий? Давай-ка выпьем лучше, чтоб летелось, да с глаз долой - из сердца вон. Запомнилась премудрость - здешняя, посконная.
- С глаз долой - это хорошо, - сказал Костя, спокойный, холодный стал у него голос, - нагляделись на всю эту животную мерзость, а вот из души не следовало бы выпускать, это большая наука понять, как человек сначала слез с дерева, а потом носом в навоз уперся, захрюкал от удовольствия, что джинсы натянул, думает, от этого человеком стал. Нет, не стал! Потерял облик человеческий. Обезьяна по мне лучше, она по деревьям прыгает, едва ли сук, на котором ночью сидит, станет ломать, да и ту, кто ее вскормил, за грудь не укусит. Чего вы от него хотите, - повернулся он ко Льву Ильичу, краска на щеках появилась, - когда тут не чувства - одни эмоции, да и то простейшие, две-три элементарных, вон и ученая собака с родословной в три листа ногу поднимает, не стесняется... Здесь другое - как это могло случиться? - да не про то, что уезжают - скатертью дорога, баба с возу - кобыле легче, и так ведь говорят, коли посконное вспоминать... Откуда, как вы сказали, эта злоба, отсутствие всякого желания понять, не только к себе - к другому хоть когда-то прислушаться? Ишь, про свои страдания вспомнил, - что ж меряться будем, у кого больше?
- А что ж, и померяемся, - тот с кольцом еще раз глянул на Валерия, - он головы не поднимал, махнул рукой и еще один фужер с водкой опрокинул в рот. С чего начнем: с погрома в Кишиневе или с сорок девятого, после великой победы славного года?
- Да нет уж, - сказал Костя, - не будем меряться - кровью захлебнетесь, еще не улетите, здесь останетесь воздух наш отравлять, сказано, скатертью дорога. Да и не на базаре мы, это только в больную голову могла залететь такая мысль - кровь на литры или на килограммы мерять, не про Троцкого же со Свердловым, не про Ягоду и не про Райхмана вспоминать...
"Но все-таки вспомнил", - с огорчением отметил Лев Ильич и тут же устыдился - самому та самая мысль пришла в голову. Тоже, стало быть, и у меня на литры пошел счет - вон до чего докатился!
- Я все другое хочу понять - как, каким образом?.. - Костя себе тоже налил водки. - А простой ответ, между тем, - он все ко Льву Ильичу обращался. - Мы с вами днем, помните, еще в поезде говорили о том, что Бога нет, что Христа здесь предали - вот оно и отыгрывается, человек теряет свой образ и подобие, а много ли прошло - два поколения! И уже опять на деревьях виснут, хвостом помахивают, в собственной навозной куче копаются...
- Ну затянул, чего вспомнил - про царя-гороха, давай уж про Ярилу, кто там еще? Даждь-бог с Перуном - давайте, давайте! - катайтесь на святках с горки ледяной, блинами закусывайте - христиане православные! Да евреям, которые у вас тут полезными останутся, пускайте на Пасху перья из подушек, особенно выкрестам - тут самая сладость проявить свои гражданские чувства, патриотизм, смелость - мы великий народ! Вот для этого пусть и остаются.
- Перестань, Саша, - Валерий встал и пошел к дверям, там уходили, прощаясь с ним.
И тут Лев Ильич увидел мальчика: он значит все время тут и стоял, слышал! Тоненький, в джинсах, вытертых до белых пятен, большие, серые глаза горели он на Сашу глядел с восхищением. Красивый какой, подумал Лев Ильич, на Валерия похож, нет, получше будет, и вдруг так больно ему стало, защемило сердце, он даже рукой схватился: как насквозь его проткнули. Нет, это не поминки, подумалось ему, не похороны - хуже. Там все естественно, все равно жизнь какая-то. Закопали - он же здесь остался, и не метафора это, не поэзия могила есть! - здесь он. И вранье все это про русские кладбища, видел он, сколько людей туда приходит на праздники, в родительские дни, как с могилками возятся: кто песок, камушки, оградку доморощенную - все, у кого что есть тащат, как выпивают там на травке, на самодельных скамеечках, закусывают, а об чем они говорят со своими покойниками, про что молчат, о чем молятся - то уж никому не известно. А другие факты, противоположные - забвение, равнодушие, цинизм - что ж, что факты, пусть гора фактов, разве они говорят о чем, больше о том, кто их собирает, выискивает, а к душе народа какое это имеет отношение? И стадионы - перекопанные кладбища, что это тоже к русским людям претензии? Да все тогда сюда вали - во всем виноваты... Но ведь он здесь остается покойник навеки остается!
Вокруг каждого из нас существует магнитное поле, думал Лев Ильич, связи настоящие, истинные и случайные, слова сказанные и не вымолвленные, отношения всякие - и не реализовавшиеся, добрые поступки, побуждения - да мало ли что хорошего исходит от него за целую человеческую жизнь! Человек умер, похоронили его - все это остается, так или иначе, но проявляется, длится, пусть память короткая, забудут про него, но кто-то ведь не забудет, цветочки принесет, - а это ведь, ой, как много, когда он один приходит, никто про то не знает, он тогда с вечностью разговаривает! А тут все это завтра исчезнет, в квартире дырка будет, пустота, окна станут слепыми, а он, Лев Ильич, каждый раз, как к дому вечером подходил, глядел на эти окна, его-то окна выходят во двор, глядел и не думал, зачем, просто отмечал - дома Валерий, знал, жена в его комнате никогда без него не сидит, раз горит лампа - знал и настольную, и большую, ничего этого теперь не будет, не останется! А сколько этих дырок по Москве, это мы еще пока считать не начали, да тут не статистика - не на литры же! пройдет лет пять, ой, как мы почувствуем эту демократическую арифметику! "А что ж ты, в таком случае про свою память, для которой не существует границ и горных цепей? - спросил он себя. - Поминки! в них хоть и безобразие, а тоже резон есть - разрядка вполне естественная... Так я повинился уже перед собой, это Люба на меня смотрела, не мог же я видеть, как он заплакал..." Да и другое это, его, с ним останется: то живое, хоть и смерть, а здесь мертвое - пусть живы все. Нет, все равно неправда, что баба с возу, вот этот мальчик, горящий как свеча, как он здесь, у нас нужен с его чистотой, пусть и с ненавистью она ж на попранной справедливости замешана, нашей виной вскормлена, а как нам уже завтра будет нехватать его чистоты и горения - вот про что думать, плакать над чем!..
- Дядя Саш, - сказал мальчик, - налей-ка и мне тоже, я с тобой хочу выпить, отец совсем стал никуда. Ничего, мы его там быстро приведем в норму... Чтоб у тебя вся эта... богоносная бодяга скорей кончилась, чтоб скорей мы тебя там увидели - вместе начнем с первого колышка!
- Брось ты, - сказал Саша, он из разных бутылок сливал в стакан, - какой тебе колышек, там такие, Боренька, эйфелевы башни стоят, будем только поплевывать в Средиземное море с утра и до вечера.
"Помоги ему Бог, мальчику несчастному", - подумал Лев Ильич, что-то не отпускало сердце, раньше так долго никогда и не болело.
- Ну а вы, Любушка, - Саша явно был пьян, хотя, видно, и много мог в себя перелить, но хватил все-таки лишка, - неужто с вашей красотой и ученостью останетесь в этом, прости меня Господи, уж ежели есть он, богомерзком городе? Супруг ваш, вижу, из тех, кого не научишь, кому одна радость, когда их по голове бьют, только просят, чтоб побольше, им в этом видится высшая цель, но вам-то это зачем? Глазки повыплачете, выцветет красота, а тут ваши последние бабьи годочки, простите уж за прямоту! Эх, мы и загуляли бы, названья одни чего стоят - Ницца, Монте-Карло, Лиссабон, Бермудские острова! Мы там торганем вашей красотой - небу станет жарко! - русская женщина с еврейской закваской... Так ведь, угадал, не ошибся? Самый, простите, цимес, уж мне поверьте, попробовал... Да замордуют они вас тут, своим слюнтяйством занудят, вы свой масштаб только теряете. Эх, не то, не того вам нужно! Я ж говорю вам, знаю, повидал кой-что, глаз имею... Когда бабу давно не целуют, не обнимают - видно, ой, видно это, Любушка! А ведь последние остались поцелуи, пройдет, не вернется!..
Костя поднялся, на Льва Ильича дико посмотрел.
- Что ж, взаправду берете?.. - Люба на вид была спокойная, ничто в ней не дрогнуло, только глаза выдавали, да и не каждому - кто знал их. Лев Ильич знал эти глаза у нее и все, что сейчас последует. ("Пьян он все-таки, этот Саша, не равное сражение, хотя почему ж неравное - и она набралась. Правда, он не знает, что коль она пьяная - плохо его дело", - ровно так думал Лев Ильич, сам себе удивляясь.) - Значит, не шутите, берете? Только запомните, Саша, я женщина дорогая, мне не слова нужны, я этих слов за свою жизнь, ух, сколько наслушалась! И Ницца мне не нужна, Лиссабон с этими дурацкими островами. Там у них в Европе есть закоулочки - знаю, прослышала кой-что. Вот там, где за поганую русскую водку, за селедочку вонючую-ржавую сотни долларов швыряют вот где шик! - там и погулять и поплакать можно... Иль испугались?