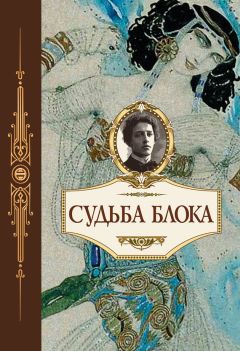В 1938 году она впервые посетила клинику для душевнобольных - там содержалось более пятидесяти русских; мать Мария повидала каждого из них, вызволила четверых - они оказались вполне нормальными, только не умели объясняться с французскими врачами. В последующий год она осмотрела еще восемнадцать клиник и, освидетельствовав двести русских пациентов, признала здоровыми около двадцати. Потом она занялась туберкулезными больными - их было много среди безработных русских; мать Мария, из-под земли достав немалые средства, создала туберкулезный санаторий в Нуази-ле-Гран (в этом доме, который позднее стал домом престарелых, в 1962 году, достигнув почти ста лет, умерла Софья Борисовна Пиленко, пережившая свою дочь на семнадцать лет).
6
"По ночам над картой России
Мы держали пера острие
И чертили кружки и кривые
С верой, гордостью за нее."
Георгий Раевский,
"Парнас", 1943
Когда в мае 1940 года гитлеровские войска ворвались в Париж, друзья не раз предлагали матери Марии уехать,- она решительно отвергала такие советы.
Из дневника К.В.Мочульского:
21 мая 1940. Мать Мария говорит: "Если немцы возьмут Париж,
я останусь со своими старухами. Куда мне их девать? А потом буду
пробираться на восток пешком, с эшелонами, куда-нибудь. Уверяю
вас, что мне более лестно погибнуть в России, чем умереть с
голоду в Париже. Я люблю Россию. Патриотизм - глупое слово. Вот
Илюша [Илья Фундаминский, позднее погиб в Освенциме] настаивает,
чтобы я уехала из Парижа. А зачем я уеду? Что мне здесь угрожает?
Ну, в крайнем случае немцы посадят меня в концентрационный
лагерь. Так ведь и в лагере люди живут".
Мечтала она вернуться в Россию, а год спустя, узнав, что немецкие войска вторглись в Советский Союз, сказала Мочульскому:
- Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет и русский период истории... России предстоит великое будущее. Но какой океан крови!..
Острее, чем когда-либо, она чувствовала себя русской. Больше и лучше, чем когда-либо, она писала - по ночам, в каморке под лестницей, смертельно усталая, писала поэму "Духов день", где дантовыми терцинами повествовала о своем сокровенном:
И я вместила много; трижды - мать
Рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала,
А хоронить детей - как умирать.
Копала землю и стихи писала.
С моим народом вместе шла на бунт,
В восстании всеобщем восставала.
В моей душе неукротимый гунн
Не знал ни заповеди, ни запрета,
И дни мои,- коней степных табун,
Невзнузданных, носились.
К краю света На Запад солнца привели меня,
И было имя мне Елизавета.
Данте в терцинах своего "Ада" был беспощаден к злодеям, предателям, братоубийцам. В терцинах "Духова дня", созданных на шесть столетий позже, такая же бешеная неукротимость.
А солнце быстро близится к закату.
Приотворилась преисподней дверь.
Иуда пересчитывает плату.
Дрожит рука, касаясь серебра,
К убитому склонился Каин брату,
Течет вода пронзенного ребра.
И говорят с привычкой вековою
Предатели о торжестве добра.
Подобен мир запекшемуся гною.
Как преисподним воздухом дышать,
Как к ядовитому привыкнуть зною!..
Дом на улице Лурмель принимал все больше обездоленных. Теперь сюда приходили ночевать евреи, которых оккупанты заставляли носить на груди желтую звезду,- они знали, что обречены на гибель; мать Мария скрывала их у себя, давала им поддельные справки о крещении, которые хоть чем-то могли помочь.
В стихах этой поры она писала:
Два треугольника - звезда,
Щит праотца, отца Давида,
Избрание - а не обида,
Великий дар - а не беда...
Пускай нее те, на ком печать
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.
Вспоминает Игорь Александрович Кривошеий:
В келье матери Марии установили мощный приемник. По ночам
она слушала и записывала советские сводки, и утром на большой
карте СССР, занимавшей всю стену комнаты для собраний, стоя на
столе, передвигала булавки и красную шерстинку, указывающую на
положение фронтов. Увы, в 1941 году эта шерстинка передвигалась
все больше и больше на восток. Но мать Мария никогда не теряла
веру в победу над фашизмом.
Ни дня без работы, пусть изнурительной и черной, но счастливой, ибо спасающей обреченных и осмысляющей жизнь. В ночь с 15 на 16 июля 1941 года оккупанты согнали парижских евреев на Зимний велодром; среди них было четыре тысячи детей, которых пять дней спустя отправили эшелонами в Освенцим, там всех уничтожили. Из пяти суток трое мать Мария провела на Зимнем велодроме, где люди умирали сотнями: на тринадцать тысяч человек был один водопроводный кран и два врача; мать Мария, падая с ног от жажды и ужаса, утешала страдающих, спасала обреченных. Многое ли было в ее силах? Но четверых маленьких детей удалось вынести в мусорных баках и сохранить им жизнь. Четверых - из четырех тысяч! "Пусть каждый делает все, что может" - это было жизненным правилом матери Марии. Ее любимой притчей была крестьянская легенда о Николае и Касьяне: оба эти святые спустились с небес на землю поглядеть на людскую жизнь. На дорогах непроходимая грязь, и вот попадается им мужик, он просит помочь - вытащить из канавы телегу. Касьян отвечает: "Жаль, но я не могу: скоро мне возвращаться на небо, перед Господом я должен предстать в незапятнанной одежде". Николай же и слова не произнес: он уже стоял в канаве и плечом толкал телегу. Когда Бог узнал, почему одежды одного чисты, а другого покрыты грязью, он изменил календарь: Святому Николаю отдал два дня в году, 9 мая и 6 декабря, а Касьяну - один, да и тот 29 февраля, так что день его бывает лишь раз в четыре года. Мать Мария учила: если можешь - спаси жизнь другому, не щадя себя; и если нужно, то плечом подопри телегу, не боясь запачкаться. Она и запачкаться не боялась, и себя не щадила.
Говорит мать Мария:
...Я знаю, что нет ничего лицемернее, чем отказ от борьбы за
сносное материальное существование обездоленных под предлогом,
что перед вечностью их материальные беды ничего не значат. Я
думаю, что человек может отказываться от любых из своих прав, но
абсолютно не смеет отказываться от прав своего ближнего.
(Статья "Прозрение в войне")
8 февраля 1943 года ее сын Юрий, студент-архитектор, был арестован. Гестаповцы дали понять, что он взят заложником - его не отпустят, пока не придет мать. На другой день монахиню Марию, вернувшуюся с пригородной фермы с мешками продуктов, уже допрашивали в немецкой полиции. Давала фальшивые справки евреям? Скрывала у себя лиц, преследуемых полицией? Прятала русских военнопленных? Слушала по ночам советское радио? Сообщала сводку своим постояльцам? Ее отправили в форт Роменвиль, оттуда в Компьенский лагерь и наконец - в Германию, в Равенсбрюк, где ей предстояло прожить два года. Юру она в последний раз видела в Компьенском лагере, именно он сообщил о ней в дом на улице Лурмель. "Дорогие мои!- писал он,- 27 апреля маму отправили в Германию. Она провела ночь в нашем лагере в Компьене, и я мог ее видеть. Она была очень бодрая и ласковая. Наверное, все мы скоро будем в Германии". Юра в самом деле оказался в Германии: ровно через год после своего ареста, в феврале 1944 года, он умер в лагере Дора. Мать ничего не знала о его судьбе. Она даже не увидела его последнего письма, адресованного в Париж бабушке и отцу.
Последнее письмо Юры Скобцова:
Я абсолютно спокоен, даже немного рад разделить мамину
участь. Обещаю вам с достоинством всё перенести. Все равно рано
или поздно мы все будем вместе. Абсолютно честно говорю, я ничего
больше не боюсь. Главное же мое беспокойство - это вы...
7
"Горе строящему город на крови и созидающему
крепости неправдою!"
Книга пророка Аввакума, 2, 12
"Да будет сердцу легок вечный путь,
Да будет пламенный закат недолог;
Найду и я в пути когда-нибудь
Нездешних солнц слепительный осколок."
Е.Кузьмина-Караваева,
"Руфь", 1916
Уже совсем обессилевшую монахиню Марию перевели в соседний лагерь с игривым названием "молодежный". Здесь ожидала только смерть. Хлеба - один ломтик, шестьдесят граммов, похлебки - одна ложка; надзиратели постепенно отбирали у заключенных все, чем они владели: сперва одеяла, потом пальто, башмаки, чулки, лекарства. Мать Мария выдержала такой режим в течение двух месяцев - и вернулась в Равенсбрюк. Инна Вебстер с ужасом глядела на нее.
Вспоминает Инна Вебстер:
От нее остались только кожа да кости, глаза гноились, от нее
шел этот кошмарный сладкий запах больных дизентерией... В первый
раз я увидела мать придавленной. Со мной она в первый раз была
любовно-ласкова; она, видимо, сама нуждалась в ласке и участии.
Она гладила мое лицо, руки. Она говорила разные ласковые слова.