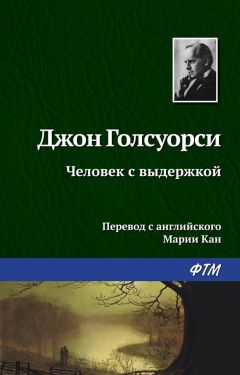Теперь, когда шум поезда заглох вдали, стало очень тихо; только ветерок шелестел молодой листвой да стучал копытом у себя в хлеву Кисмет. Динни пересекла второе поле и подошла к узкому бревенчатому мостику. Ночное благоухание напоминало ей чувство, которое жило в ней теперь постоянно. Она перешла мостик и скользнула в тень яблонь. Ветви их, казалось, сияли между ней и озаренным луною, беспокойным небом. Они словно дышали и пели хвалу начальной поре своего цветения. Они горели тысячами белеющих ростков, один прекраснее другого, словно их зажег кто-то завороженный лунным блаженством и посеребрил звездной пылью. Вот уже больше ста лет каждую весну повторяется здесь это чудо. Весь мир словно околдован в такую ночь, но Динни больше всего трогало ежегодное волшебство цветения яблонь. Она стояла среди старых стволов, вдыхая запах коры, пропитанный пылью лишайников, и вспоминала чудеса родной природы. Горные травы, звенящие песнями жаворонков; тишайшая капель в чаще, когда после дождя выходит солнце; заросли дрока на колышимых ветром выгонах; лошади, которые, кружа, пашут, оставляя за собой длинные серо-бурые борозды; речные струи, то ясные, то - под ивами - подернутые зеленью; соломенные крыши с вьющимся над ними дымком; покрытые снопами скошенные луга; порыжевшие хлеба; синие дали за ними и вечно изменчивое небо - все эти образы теснились в ее душе, но самым дорогим было это белое волшебство весны. Динни вдруг почувствовала, что высокая трава совсем влажная; чулки ее и туфли промокли насквозь; светила такая луна, что можно было разглядеть в траве звездочки нарциссов, кисти гиацинтов и бледные, литые чашечки тюльпанов; там должны быть и колокольчики, и белые буквицы, и одуванчики, - правда, их еще немного. Она пробежала дальше, вышла из-за деревьев и постояла, глядя на белое мерцание, оставшееся позади. "Все это словно свалилось с лупы, - подумала она. - А чулки-то, мои самые лучшие!"
Она пересекла огороженный невысоким забором фруктовый сад и по газону подошла к террасе. Двенадцатый час! Внизу светилось только одно окно: в кабинете отца. Как все это похоже на ту, другую ночь!
"Ничего ему не скажу", - подумала она и постучала в окно.
Отец впустил ее.
- Здравствуй, значит, ты не осталась ночевать на Маунт-стрит?
- Нет, папа, не могу же я вечно спать в чужих ночных рубашках!
- Садись, выпей чаю. Я как раз собирался его заварить.
- Папочка, я шла через яблоневый сад и промокла насквозь.
- Снимай чулки, вот тебе старые шлепанцы.
Динни стянула мокрые чулки и села, задумчиво рассматривая свои ноги при свете лампы, пока генерал зажигал спиртовку. Он любил все делать для себя сам. Она смотрела, как он готовит чай, и думала, что он еще молодцеват, подтянут и движется по-прежнему быстро и ловко. На его загорелых руках с длинными гибкими пальцами росли короткие темные волоски. Он выпрямился и, не двигаясь, стал всматриваться в пламя горелки.
Нужен новый фитиль, - сказал он. - Боюсь, что в Индии нам угрожают серьезные неприятности.
- По-моему, от Индии мы теперь получаем куда меньше пользы, чем неприятностей.
Лицо генерала с острыми скулами обратилось к дочери; он внимательно поглядел на нее, и его тонкие губы под полоской густых седых усов улыбнулись.
- А это часто бывает с теми, кто несет бремя ответственности. У тебя красивые ноги.
- Что же тут удивительного, я ведь твоя и мамина дочка.
- Мои хороши только для сапог - жилистые. Ты пригласила мистера Дезерта?
- Нет, еще нет.
Генерал сунул руки в карманы. Он снял смокинг и надел старую охотничью куртку табачного цвета. Динни заметила, что манжеты слегка обтрепались и одной кожаной пуговицы недостает. Темные, дугообразные брови генерала нахмурились, лоб пересекли три резкие складки, но он сказал очень мягко:
- Что-то я, Динни, не понимаю этой перемены религии. Тебе с молоком или с лимоном?
- Если можно, с лимоном. - И подумала: "В конце концов сейчас самое подходящее время. Крепись!"
- Два куска сахара?
- С лимоном три, папа.
Генерал взял щипцы. Он опустил в чашку три куска сахара и ломтик лимона, потом положил щипцы и нагнулся к чайнику.
- Кипит, - сказал он и налил в чашку воду, потом опустил туда ложечку с чаем, вынул ее и передал чашку дочери.
Динни помешала прозрачную золотистую жидкость. Она сделала глоток, поставила чашку на колени и повернулась к отцу.
- Могу тебе объяснить, папа, - сказала она и тут же подумала: "Но тогда ты уж совсем ничего не поймешь".
Генерал налил себе чаю и сел. Динни судорожно стиснула ложечку.
- Видишь ли, когда Уилфрид был в Дарфуре, он наткнулся на гнездо арабов-фанатиков, - они там остались еще со времен Махди. Вождь приказал привести его к себе в шатер и пообещал ему жизнь, если он перейдет в мусульманскую веру.
Отец судорожно дернулся и даже пролил немного чая на блюдце. Потом поднял чашку и вылил чай обратно. Динни продолжала:
- Уилфрид относится к религии так же, как большинство из нас, но, пожалуй, еще равнодушнее. И не только потому, что не верит в христианство; он ненавидит всякую религиозную догму, считает, что религия разобщает людей и приносит им больше вреда и страданий, чем что бы то ни было. А потом, понимаешь, папа, - или, вернее, ты бы понял, если бы прочитал его стихи, война оставила в нем страшную горечь - он увидел, что у нас не дорожат человеческой жизнью и швыряются ею как попало по приказу людей, которые об этом даже не задумываются.
Генерала снова передернуло.
- Папа, я сама слышала, как и Хьюберт говорил то же самое. Во всяком случае, Уилфрида ужасает самая мысль о зря загубленной жизни, он не терпит фарисейства и суеверия. Да и решать-то нужно было за каких-нибудь пять минут. И толкнула его на этот шаг не трусость, а глубочайшее презрение к тому, что люди могут лишать друг друга жизни ради веры, которая ему кажется бессмысленной и пустой. Поэтому он махнул рукой и согласился. А согласившись, надо было сдержать слово и выполнить обряд. Но ты ведь его не знаешь, и все, что я говорю, - напрасно. - Она вздохнула и жадна проглотила чай.
Генерал отставил чашку; он встал, набил трубку, зажег ее и подошел к камину. Потемневшее лицо его было серьезно, глубокие складки обозначились на нем еще резче.
- Да, все это мне непонятно, - сказал он наконец. - Значит, освященная веками вера твоих отцов ничего не стоит? Значит, все то, что сделало нас самым гордым народом в мире, может быть выброшено на свалку по мановению руки какого-то араба? Значит, такие люди, как Лоуренсы, Джон Никольсон, Чемберлейн, Сандеман {Лоуренс Генри (1806-1857), Лоуренс Джон (1811-1879), Никольсон Джон (1822-1857), Сандеман Роберт (1835-1892) - деятели, игравшие видную роль в установлении британского владычества в Индии в XIX веке.} и тысячи других, отдавших свою жизнь за то, чтобы у англичанина была репутация смелого и преданного человека, могут быть оплеваны всяким, кому пригрозят пистолетом?
Динни со звоном уронила чашку на блюдце.
- Да, Динни, и если не всяким, то почему хоть одним? Почему именно этим одним?
Динни не ответила. Она вся дрожала. Ни Адриан, ни сэр Лоренс не сумели ее пронять, а сейчас до нее впервые дошла точка зрения противника. В душе ее была задета какая-то тайная струна, ее заразило волнение человека, которого она всегда почитала, любила и не считала способным на такую страстную филиппику. Говорить она не могла.
- Не знаю, религиозный я человек или нет, - продолжал генерал, - вера моих отцов вполне меня устраивает, - он махнул рукой, словно хотел сказать: "Дело тут не во мне", - но пойми, я не мог бы пойти на это по принуждению, не мог бы сам и не понимаю, как пошел на это другой.
Динни негромко сказала:
- Я не стану тебе объяснять; давай так и уговоримся: не понимаешь, и все. Большинство людей совершает поступки, которые трудно понять, только о них не всегда знают. И разница только в том, что о поступке Уилфрида знают.
- Как, и об угрозе знают... о том, почему?
Динни кивнула.
- Откуда?
- Какой-то мистер Юл приехал из Египта и рассказал эту историю; дядя Лоренс считает, что замять ее невозможно. Я хочу, чтобы ты знал самое худшее. - Она собрала свои мокрые чулки и туфли. - Пожалуйста, расскажи все это маме и Хьюберту, хорошо, папа? - и встала.
Генерал глубоко затянулся; в трубке послышалось бульканье.
- Пора вычистить твою трубку, папочка. Завтра я этим займусь.
- Но ведь он станет парией! - вырвалось у генерала. - Настоящим парией. Ах, Динни, Динни!
Никакие другие слова не могли бы ее так растрогать и обезоружить. Он больше не спорил, он их жалел.
Закусив губу, она сказала:
- Папа, если я не уйду, мне попадет в глаза дым. И ноги у меня застыли. Спокойной ночи, милый!
Она повернулась, быстро пошла к двери и, оглянувшись, увидела, что он стоит, понуро опустив голову.
Динни поднялась в свою комнату, села на постель и стала тереть одна о другую замерзшие ноги. Вот и все! Отныне ее удел - жить во враждебной атмосфере, которая будет окружать ее, как стена; надо пробиться сквозь эту стену, чтобы соединиться с любимым. И удивительней всего то, думала она, старательно растирая окоченевшие ноги, что слова отца вызвали у нее тайный отклик, и при этом ничуть не затронули ее чувства к Уилфриду. Неужели любовь не зависит от рассудка? Неужели образ слепого божества и в самом деле образ любви? Неужели правда, что недостатки любимого делают его для тебя только дороже? Наверно, поэтому так не любят высоконравственных героев из книг; смеются над героической позой и злятся, когда добродетель торжествует.