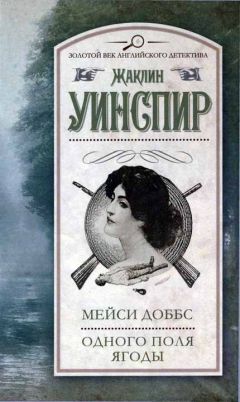- Да ладно, - сказал я.
- Нет. Я как понимаю? Был бы этот фунт из получки, тогда другое дело. А то мне его сам главный инженер дал.
- Ясно, - сказал я. Но Доббс не унимался:
- Я полвека здесь проработал. И раз уж сам главный дал мне этот фунт, старуха захочет на него посмотреть, пощупать своими руками.
Я промолчал. Тут грузчики заметили нас снизу. Народ они грубоватый, и шутки у них не лучше, словом, подняли они кружки - мол, пьют за наше здоровье - насмехаются, значит. Им-то потеха.
- Чего это они? - спросил Доббс.
Чувствую, он сейчас смекнет, что к чему, и молчу, собираю посуду. Потом как ни в чем не бывало пошел от окна по мостику. А когда он наконец все смекнул и - в крик, я уже был на середине лестницы. По яростному пламени из открытых печей и поту на голых торсах, по тучам голубого дыма прямо подо мной я понял, что сейчас начнут очередную засыпку. Я еле успел спуститься. Клубы дыма и копоти заволокли цех. Оранжевое, зеленое, фиолетовое, голубое свивалось у проемов потолка в причудливый узор. Пыль носилась в воздухе и вихрями вздымалась вверх. Я знал, что теперь Доббсу придется ждать на площадке под окном, пока все это не кончится.
Когда он, наконец, спустился, то двинул прямо к своему пиджаку, пошарил по карманам и выскочил на причал. Вопил он, будто его режут:
- Пьянь чертова, ворюги окаянные!
Я его догнал, когда он уже подскочил к Бирну.
- Мой фунт! - орал он. - Где мой фунт? Бирн - та еще орясина - только скалился с высоты своего роста.
- Шуток, что ли, не понимаешь, - сказал он. - Завтра отдадим.
Я подумал, что Доббса хватит кондрашка.
- Мне от вас, ворюг, ничего не надо, - заорал он, но тут Бирн - хвать его за плечи, и Доббс затих. Бирн больше не ухмылялся. Он даванул Доббса покрепче и сказал:
- Полегче на поворотах.
Я вклинился между ними и оттеснил Бирна в сторону.
- Кончай! - сказал я. - Связался со стариком. Тогда Доббс перекинулся на меня.
- И ты такая же пьянь, - заорал он снова. - Я тебя раскусил. Зубы мне заговаривал, чтоб они сперли фунт.
- Пошли, - сказал я Бирну. - Ну его!
Мы немножко отошли в сторону и обернулись. Кто-то из грузчиков оставил на каменной основе ворота жестяную кружку. Доббс метнулся к ней, схватил и с такой злостью швырнул в реку, что я подумал - ну и всплеск сейчас будет. Но кружка шлепнулась в воду почти бесшумно, ее тут же подхватил отлив и спокойненько понес в открытое море. Доббс провожал ее глазами - казалось, вся злость из него выходит. Он весь сник, а голова у него склонилась набок, будто он к чему-то прислушивался. Я снова вспомнил про Вексфордский почтовый. Потом Доббс оперся руками на прогретый камень ворота. Я взглянул на небо. Оно совсем потемнело. Доббс нежно и задумчиво поглаживал камень, а мы стояли и смотрели на него. Он, наверное, думал о своем отце - как и я теперь, много лет спустя, думаю о моем, - и еще он, видно, думал (как часто случается и со мной), что все на свете уходит, уходит навсегда. Обиды, страсти, злость, ревность, боль, недолгие успехи и радости, безоблачная пора невинности - все уплывает во мрак, покачиваясь, как старая жестяная кружка на волне отлива.
На следующий день, когда я рассчитывался, Доббс тоже пришел получать свою последнюю зарплату. Он мне ничего не сказал, да и я не находил слов, не знал, как поправить дело. Много лет спустя я вернулся - подвесная вагонетка все так же медленно и грациозно плыла над заводским двором, но ни Доббса, ни моего отца уже не было в живых.