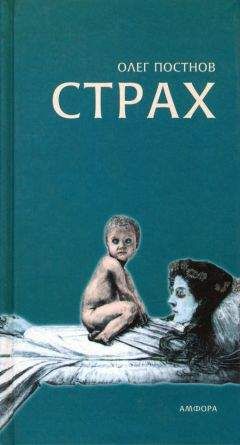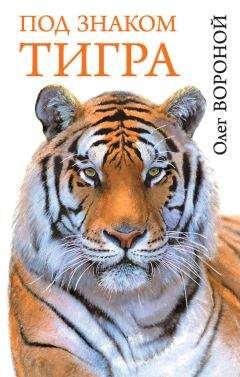Я сел, потом встал и взглянул в окно. Был теплый ноябрь, листопад. Я сделался хмурым свидетелем окончания ночи. Гирлянды города меркли в утренней мгле. Ветер с юга, обычный, как я знал по бессоннице, в это время суток, оживлял гибридный куст под окном, еще полный теней. Мне было зябко и грустно. Уняв дрожь, я вернулся под одеяло, закрыл глаза. Что мы знаем о нашей жизни? Мы судим себя и других вкривь и вкось, и еще хуже наши дела. Слишком много ночей и дней дает нам время: мы не в силах удержать их в себе. Не потому ли в конце концов нас самих ждет лишь одно — забвение?
Я родился в семье дипломата почти треть века назад. Именно случаю обязан я местом своего появления на свет. Миссия моего отца в Нью-Йорке вряд ли была безобидной. Все же он настоял на том, чтобы мать ехала с ним. Мать была против. Насколько я помню, городская жизнь всегда была в тягость ей. Может быть, потому и я сам так и не привык до конца к столице. Отец, человек столичный по своим вкусам, профессии и судьбе, вовсе не мог взять в толк этих ее «причуд». Он держался мнения, что все должно быть разумно. Разум велит знать мир. Мать согласилась ехать лишь потому, что того требовали «инстанции» (так он ей говорил). До сих пор не уверен, только ли козни политики задержали их в Штатах, и не строил ли отец в душе расчет, на который не раз намекал мне потом. Собственно, ложь он не ставил никому в упрек. Инфаркт положил конец его карьере, когда мне было семнадцать лет, и после этого я уже мог думать о нем все, что хотел. Я не спешил с выводами. Но странным всегда казалось мне то, что, едва родившись в мир, еще только грезя жизнью, я облетел половину планеты, чтобы потом найти себя на дорожке в саду, перед домом деда, накануне грозы, которую уже не помню.
Дом был построен добротно, перед войной, и пережил оккупацию. Осколок бомбы разбил стекло и продырявил дверцу буфета. Разумеется, к моменту моего появления стекла все были целы, дверца залатана, лишь несколько щеп отставало внутри, что было видно, если кто-либо приходил открыть то боковое отделение, в котором хранилась старая глиняная посуда. Здесь шеренга склянок с лекарствами, с водкой, теснила пузатый кувшин, всегда пустой, и висели связки травы для настойки. Траву собирал в лесу сам дед. Лес — тоже древний, огромный, уходивший куда-то в Польшу (или, возможно, в Венгрию, я был слаб в географии), подступал к самому селу. Из сада была видна темная гряда его верхушек, казавшихся ближе и темней, чем это было на самом деле. Даже в жаркий украинский полдень словно бы душной влагой веяло от этих вековых крон. Их аромат застаивался потом в сарае, где дед хранил и колол дрова. Перед сараем бродили куры. На чердаке был сеновал.
Подворье деда расширялось и росло из года в год и представилось мне исполинским в тот первый день в саду, когда я осознал себя. Не могу сказать, почему это случилось именно здесь. Может быть, спертый воздух перед грозой прояснил мне на миг ум, как-то особым образом толкнул или сжал его, и я увидал и запомнил — уже навек — цветы клумбы слева от калитки, себя, идущего мимо них на кривых вялых детских ножках (моя беспомощность меня не пугала), между тем как вокруг все готовилось утонуть в теплой розовой и бордовой мгле, а черная туча показывала край из-за ветвей дикой груши, росшей против крыльца. Потом год за годом все это старилось и ветшало, как-то съеживалось всякий раз, как я приезжал опять из столицы к деду, словно время прежде шло вспять, а тут вернулось в привычное русло, и мне казалось даже, что именно потому и от этого мне щемит на особый лад сердце в первый миг, когда вновь, после долгой зимы, я бегу по дорожке домой, к усадьбе деда.
Мое детство никогда не было жалким, ущербным, я не был ничем обделен. Напротив. Я едва успевал вместить в себя все то, что находил вокруг, и очень рано поэтому стал ощущать предательскую сущность вещей: они менялись слишком быстро, быстрее, чем я хотел. Не удивительно, что я не чувствовал скуки. Что с того, что я был один!
Сад деда уступами спускался к реке, мелкой и светлой, с песчаным дном, и всегда холодной, даже в жару в июле. Соседские дворы пестрили окрестность неразберихой крыш, вишневых и яблоневых куп, а также вышками громоотводов, похожих издали на иглы, воткнутые в мох. Ниже по течению был став (запруда) с белыми лилиями и дощатой плотиной. Дед говорил, что прежде тут была мельница. Она сгорела в войну, как и все ее бледные подобия, которыми любит злоупотреблять кинематограф. За плотиной река обращалась в ручей и была притоком другой, большой реки, название которой я позже нашел в летописях. Эта река дала имя деревне.
Дом деда господствовал над двором и к тому же был самым большим на улице. Сад обступал его, но не мог скрыть. Зато кусты теснились у стен: сирень близ веранды, акация возле детской, виноград вдоль окон гостиной и спальни, — и ночью, во тьме вся усадьба казалась бесформенной громадой, лишь сверху урезанной скатами крыш. Днем в комнатах было зябко, солнце с трудом пробивалось сквозь листву, и я забегал сюда со двора лишь затем, чтобы хлебнуть на кухне из эмалированной кружки ледяной колодезной воды: запасы ее пополнялись всегда с большим усердием, хотя колодец был в соседнем дворе, куда вела специальная боковая калитка. Больше в доме днем делать было нечего.
Иное дело — сад и сарай. Знойный воздух плыл над травой, над клумбами, извлекая дурман из настурций и флоксов, в соцветиях которых к тому же была дождевая влага — по капле в каждом цветке, — и если выдавить ее на язык, сладкий яд жег нутро жаждой чего-то такого, о чем я еще не мог знать. В сарае, помимо дров, хранился весь инструментарий хозяйства. Тут пахло медом и дегтем. Грабли коварно подставляли зубцы под ноги, от чего их тонкая ручка-жердь вдруг выскакивала, танцуя, из угла, из середки других, ей подобных, но неподвижных (лопаты и сапки не были склонны к подвохам). Тут нужно было успеть отскочить. Верстак был опасен занозами, однако непоборимо тянул к себе коллекцией завитков из старых и свежих стружек, которым хотелось найти применение. Банки с гвоздями, набор гирь для весов, черно-желтые соты с мертвой пчелой, пульверизатор и старая, вся в паутине, реторта — дед когда-то занимался химией, — таких сокровищ была бездна в сарае, и я, зайдя сюда с солнца, мог подолгу стоять и рассматривать их, чем приводил деда в недоумение: я никогда ничего не брал из его вещей, как не рвал и цветов, кроме, разве что, флоксов, да и их редко. Я смутно догадывался, на что намекает их яд. В дальнем углу сарая, над старыми ульями с железной крышей и темной щелью летка висели на стене весла от лодки. Покрашенные в белый и голубой цвет, с потертостями у уключин, они в разные годы вызывали у меня разные чувства: лодка была на плаву не всегда. У нее сгнивали то борт, то корма, а чаще дно, так что дед долго чинил ее и смолил, если вообще находил на это время. От этого, между тем, зависела судьба моих речных одиссей; и, приезжая к деду, я первым делом осведомлялся, что лодка? Не помню, с каких лет мне позволили плавать одному.
Американский городок, в котором я теперь живу (или вынужден жить, хотя это изгнание добровольно), расположен в ста верстах на юг от Нью-Йорка и носит редкое название: River-band (Набережная). В России так бы могли назвать улицу, но тут порядки свои. Река, впрочем, действительно где-то есть, хотя мне ни разу не удалось подойти к ней вплоть. Она прячется среди низких и густых перелесков Нью-Джерси, сквозь которые я не умею продраться. Кроме того, я боюсь нарушить границу частных владений, а мне вовсе не хочется вторгнуться в чужой предел. В межевых знаках я не знаток. Это и вообще-то касается пространств моей случайной родины. Они организованы на свой лад, иначе, чем я привык, у них своя география, но она чужда мне. Человек искажает мир. Человек есть сам искажение мира, и потому, где возможно, я стараюсь двигаться по прямой.
Мой городок дает мне к этому массу поводов. Он весь состоит из двухэтажных домиков, расставленных словно в клетках; клетки образованы скрещением улиц, а мой дом находится на перекрестке их. Напротив крыльца — гидрант, которого так боялся Набоков. Если свернуть за угол, к гибридному кусту, и потом идти все вверх да вверх, на север, то вскоре — спустя квартал (или «блок», как тут говорят) — будет автобусная станция. Час в автобусе, потом три квартала по Сорок второй стрит в сторону, противоположную морю, — его аромат иногда заметен в воздухе, даже зимой, — вот и все, что требует от меня русское книгоиздательство в США. Я составляю комментарии. Делаю переводы. Правлю гранки. Мы издаем англосаксов по-русски и русских по-английски. Сейчас я комментирую По.
Но если, выйдя из дома, свернуть на запад и прогуляться вдоль припаркованных наискось к тротуару автомобилей, которых много на этой, почти главной улочке городка, то по правую руку начнутся и потянутся чередой, квартал за кварталом, мелкие магазинчики, лавки, бюро проката, ремонта, кафе, пиццерии и, словом, вся та торговая мелюзга, которая в Европе живет шумной жизнью, а здесь, кажется, спит или пустует, хотя повсюду неоновый росчерк «открыто» не гаснет ни ночью, ни днем. Впрочем, ночью они все же заперты, это я знаю на правах русского, которому скучно по ночам.