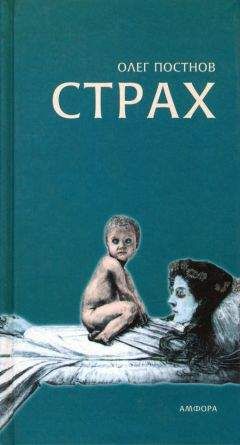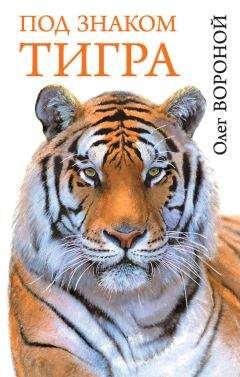Ира была семейный деспот, своим характером досаждавший чуть не всей родне, в том числе деду. «У нее в голове ветер» — это то, что чаще всего говорилось о ней. По мнению старших, она была непоседлива и вредна. Были еще и другие ее грехи, которые, впрочем, не обсуждались при мне, но о которых я был осведомлен в точности, из первых рук, ибо с ней ладил. Теперь я тоже был рад, что ее увижу. Дед, напротив, нервничал и ворчал.
Я обнаружил, что в доме за время моего отсутствия произошло несколько перестановок. Из них только одна касалась меня самого: в детскую, где я всегда жил, был водворен дедовский письменный стол, предмет моего неустанного любопытства. У меня в душе — в тайном ее укладе — ему отводилось примерно столько же места, как и буфету. Но он был загадочней и недоступней — на мой взгляд. Я не знал названия половины тех вещей, что хранились в нем, особенно в его ящиках, бывших обычно на замке. Когда замок отпирался, я имел случай заглянуть внутрь через плечо деда, но нечего было и мечтать о том, чтобы взять что-нибудь в руки. «Це тоби нэ гра», — пояснял в таких случаях лаконически дед. Он, однако, кривил душой, как я думал. Ибо многое из того, что я мог рассмотреть, было как раз «грой» (игрой): пасьянсные карты, бочечки для лото, коробка пистонов от французского театрального кольта, привезенного деду в подарок из заграницы чуть ли не моим же отцом. На капсюлях был отчеканен стилизованный лист, похожий на масть пик — разумеется, в пику деду. Но дед твердо стоял на своем. Лишь изредка и весьма неохотно он выдавал мне на время что-либо из стола, к примеру, лупу для выжигания узоров либо тушь и перо, и строго следил потом за сохранностью вещи, которую всегда сам клал назад. В столе — все равно, в тумбах ли, в ящиках — был образцовый порядок, не вполне вязавшийся с положением дел наверху. Тут дед был менее строг. Лампа с голым амуром, развернувшим на пухлых коленах хартию (должно быть, список побед), бронзовый чернильный набор ему в тон, барометр и деревянный нож для резки бумаги погрязали нередко под кипой газет и журналов, уже начинавших снизу желтеть. Синее сукно было придавлено в центре стола стеклом, под ним располагались фотоснимки: экспозиция семейного альбома. Дед следил, чтобы никто не был забыт. Покойников это касалось в той же мере, что и живых. Даже нелюбимая им Ира была среди прочих домочадцев на дымчатом фото и с таким благим выражением лица, какого мне у нее в жизни не доводилось видеть. Снимок изображал ее в день школьного выпуска в 8-м классе. На ней было платье, бант и передник с большим, домашней работы кружевом. Она была хороша на снимке, и я знал, что как раз в тот день она вскружила голову соседскому парню, кузнецу. С тех пор она всегда вслух потешалась над ним. Впрочем, я не раз замечал, как в сумерках они гуляли где-нибудь вместе. От меня они не таились: мне до этого не было дела.
День медленно уходил, вечерний свет озарял комнату. Кроме тахты, на которой я спал, тут был еще холодный кожаный диван с ящиком для белья под сиденьем. Верно, оттого что стол, как всегда, был на запоре, я присел на корточки и выдвинул этот ящик. Белье лежало стопками. В пустом углу скучала кипа детских книг, давно уже мной и Ирой читанных. Рядом с ней съежилось крохотное и нищее кукольное царство Иры. Два пупсика разных полов (судя по прическе). Кукла Света в довольно грязном платьице и со следами макияжа на губах и ресницах закатывавшихся экстатически глаз. Какой-то игрушечный скарб и лишь одна новинка: сшитый из старых открыток ларчик в форме дивана, тоже с ящиком под сиденьем, куда можно было спрятать флакон духов. Ларчик мне понравился; он превращал большой диван в нечто вроде заглавной матрешки либо «вампукской хрюри» Кэрролла, которого я не любил за сюжет, похожий на скарлатину, когда ничего уже нельзя понять… Вздохнув, я закрыл и задвинул маленький и большой диваны. Потом настал вечер.
Не знаю, зачем я медлю на этой последней точке моего детства, но что-то удерживает меня. Что-то велит вспомнить холод той майской ночи, проникший на веранду, где в тусклом свете «экономической» лампочки подле зеленого глазка радиолы мы пили перед сном с дедом травяной чай. Он любил намешивать в него варенье, я предпочитал ничего не мешать. Дед смотрел в газету, я перечитывал надписи на нижней панели радиолы, той, под которой ползала взад-вперед красная стрелка, никогда, конечно, ничего не ловя, кроме столиц и Киева. Зато желтые надписи обещали круиз: Стокгольм, Лондон, Афины, Париж. Нью-Йорк — имя родины, словно я на чужбине… Я усмехнулся радиоле. Дед ушел спать на сеновал, я запер дом и погасил свет. Я думал, что тотчас усну. И ошибся: то была первая ночь, когда я узнал страх.
Кофейня Люка была пуста — лишь посетитель с пейсами, такими же, как у хозяина, нежно листал в углу фолиант. Люк обрадовался мне чуть ли не больше, чем всегда. «Ага, мистер, вот посмотрим, — сказал он, загадочно щурясь и подмигивая мне, — будет ли вам по вкусу то, что я тут для вас приготовил». С проворством циркача (торговый, а не литературный штамп) он выхватил из-под прилавка том и протянул мне. Это был Амброзий Бирс — собрание стихов и рассказов. Признаться, после бессонной ночи я предпочел бы чашечку кофе. Но, конечно, сделал вид, что рад.
На деле я никогда не питал страсти к писателям вроде Лавкрафта, Бирса или Говарда. Их ужасы всегда казались мне слишком условными, чтобы выйти за рамки простых сюжетных схем. Например, Гамлет-старший (если уж искать сравнений) страшнее их, как и вампир Толстого полнокровней их бледных фантастических фигур, сквозь которые, как ни гляди, не увидишь никакой яви. Иное дело — По. Недаром он все пытался шутить в своих самых скучных рассказах: жалкая гримаска, за которой трудно скрыть правду. Однако благодаря Люку — он как-то понаведался вскользь о цели моих поездок в Нью-Йорк, — а также из-за пристрастий нашего издательства, впрочем, всегда покорного вкусам рынка, у меня в доме собралась целая библиотечка таких книг. В масштабах Америки ее, верно, можно было бы счесть очень солидной. Но русские эмигранты, как погорельцы, вообще склонны хранить хлам. Порой, листая на ночь тот или другой том, я с удивлением обнаруживаю (как специалист у дилетанта) какой-нибудь ловкий ход, ритм, даже очерк чувств, мне слишком понятных, хотя вряд ли известных самому автору. Правда, как раз Бирс, может быть, кое-что пережил и сам. Что до Лавкрафта, то один прием составляет всю суть его литературной удачи и основу манеры — трюк, заимствованный затем у него сворой деятелей этого жанра, но даже и после того не потерявший игривой способности отразить более или менее верно зыбкость любого кошмара на фоне скучных дел дня. «Оно (признание) было невероятным, — пишет Лавкрафт (перевод мой), — но в тот час я поверил ему безоговорочно. Не знаю, верю ли ему теперь» — вот формула этого тропа. Назовем его «эндуастос» (сомнение) и запомним его.
Ира приехала утром. Я сразу проснулся — она стучала в дверь, — но уже было поздно. Я побежал к двери, шлепая ногами по полу. Ее рассмешило, что я в одной рубашке, без трусов: «как девчонка». Весь дом сразу наполнился ею. Она отдергивала шторы в гостиной, солнце золотило пыль под столом, дед спешил с animal farm (двор для кур), а я пытался понять, было ли вправду то, что я видел ночью.
— Ты спал один? В доме? — спросила вдруг Ира, странно на меня взглянув. Мы вышли в прихожую. Медный «жук» для съема сапог высовывал толстые усы свои из-под стойки с обувью. Эндуастос заставил меня покраснеть. Я смотрел косо вниз, на «жука». Дед, войдя в дом, избавил меня от вопроса. Они с Ирой мельком поцеловались. Уже через пять минут он хмурился и вновь ворчал себе под нос, ожидая от Иры проказ, недовольный и тем, что она сама, без спроса, накрыла стол к завтраку, захватив с огорода столько зелени, сколько попало ей в руки — что, впрочем, было кстати, ибо мы тотчас съели все, от чеснока до салата, с яичницей, запеченной по-украински в сале… День был жаркий, недвижный. Ира ушла на реку курить. Я плелся сзади, подавленный сомнениями, которые не покидали меня вопреки бесспорному знанию (с которым я все же пытался в душе спорить), что это был не сон. Но было странно знать также и то, что это — правда.
Это была давняя история. Сколько я помню, я никогда не боялся темноты. По вечерам, в отличие от племянника г-на де Галандо (ссылка: де Ренье), я не испытывал в своей комнате страха. К тому же спальня, где я проводил ночь, была самой обжитой для меня комнатой в доме деда. И все же именно с ней в нашей семье были связаны смутные слухи. Их я слышал не раз и прежде, но никогда вовсе не обращал на них внимания, так что теперь силился вспомнить, что же именно говорилось, между тем как спросить Иру — возможно, в силу ее слишком поспешного любопытства и чуть ли даже не догадки, тотчас, с порога — я не мог. Лодка покачивалась на привязи. Я сел на корму, наблюдая совокупление двух мух. Кое-что как бы стало постепенно проясняться в моем уме.