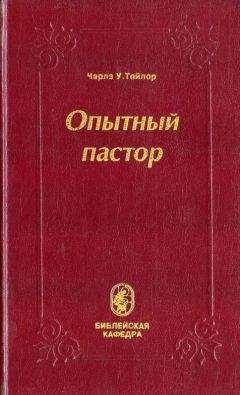Эджертон сделал движение головою, как будто готовясь отвечать; все присутствовавшие были удивлены и испуганы внезапною переменою, которая произошла в лице его. Взор его подернулся облаком, грусть напечатлелась на челе его, губы его напрасно старались произнести какое-то слово; он упал на кресло, стоявшее подле. Левая рука его неподвижно лежала на свертках деловых бумаг и оффициальных документов, и пальцы его механически играли ими, как играет умирающий своим одеялом, готовый променять его на саван. Правая рука его, как будто во мраке ночи, искала прикоснуться к любимому сыну и, найдя его, старалась привлечь его ближе и ближе. Увы! счастливая семейная жизнь, этот замкнутый центр человеческого существа – эта цель, к которой он так долго стремился со всякого рода лишениями, ускользнула от него в то самое время, как он считал ее достигнутою, исчезла, как исчезают на поверхности моря круги от брошенного камня: не успеешь уследить за их изменчивыми очертаниями, как они уже расплылись в бесконечность.
Рандаль Лесли поздно вечером в тот день, как оставил Лэнсмер-Парк, пришел пешком к дому своего отца. Он сделал длинное путешествие посреди мрака и тишины зимней ночи. Он не чувствовал усталости, пока неурядный, бедный дом не напомнил ему о его безвыходной бедности. Он упал на постель, сознавая свое ничтожество, сознавая, что он самая жалкая развалина среди развалин человеческого честолюбия. Он не рассказал своим родственникам о всем произшедшем. Несчастный человек – ему некому было вверить свои горести, не от кого было выслушать строгую истину, которая могла бы принести ему утешение и возбудить в нем раскаяние. Проведя несколько недель в совершенном унынии и не произнося почти ни слова, он оставил отцовский дом и возвратился в Лондон. Внезапная смерть такого человека, как Эджертон, даже в те беспокойные времена, произвела сильное, хотя кратковременное впечатление. Подробности выборов, сообщавшиеся в провинциальных листках, перепечатывались в лондонские журналы; сюда вошли заметки о поступках Рандаля Лесли в заседании комитета с колкими обвинениями его в эгоизме и неблагодарности. Весь политический круг, без различия партий, составил себе о бедном клиенте государственного человека одно из тех понятий, которые набрасывают тень на весь характер и ставят неодолимую преграду честолюбивым стремлениям. Важные люди, которые прежде оказывали, ради Одлея, внимание Рандалю и которые при малейшем покровительстве со стороны судьбы, могли бы возвысить его карьеру, проходили мимо его по улицам, не удостоивая его поклоном. Он не осмеливался уже напоминать Эвенелю об обещании его поддержать его при последующих выборах за Лэнсмер, не смел мечтать о занятии вакансии, открывшейся со смертию Эджертона. Он был слишком сметлив, чтобы не увериться, что все надежды его на представительство за местечко исчезли. Теряясь в обширной столице, как некогда терялся в ней Леонард, он точно также подолгу стоял на мосту, глядя с тупым равнодушием на поверхность реки, как будто манившей его в свои влажные недра. У него не было ни денег, ни связей – ничего, кроме собственных способностей и познаний, чтобы пробивать дорогу к той высшей сфере общества, которая прежде улыбалась ему так благосклонно; а способности и познания, которые он употребил на то, чтобы оскорбить своего благодетеля, навлекали за него только более и более явное пренебрежение. Но и теперь судьба, которая некогда осыпала своими благами бедного наследника Руда, послала ему в удел совершенную независимость, пользуясь которой, при неутомимых трудах, он мог бы достигнуть если не самых высоких мест, то по крайней мере такого общественного положения, которое заставило бы свет руководствоваться его мнениями и, может быть, даже оправдать его прежние поступки. 5,000 фунтов, которые Одлей завещал ему партикулярным актом, с тем, чтобы поставить эту сумму вне законных условий, были выплачены ему адвокатом л'Эстренджа. Но эта сумма показалась ему столь малою в сравнении с неумеренными надеждами, которых он лишился, и дорога к возвышению представлялась ему теперь такою длинною и утомительною после того, как он был раз у её исхода, что Рандаль смотрел на это неожиданно доставшееся ему наследство, как на предлог не принимать на себя никакой обязанности, не избирать никакой серьёзной деятельности. Уязвляемый постоянно тем резким контрастом, который его прежнее положение в английском обществе составляло с настоящим положением, он поспешил уехать за границу. Там из желания ли развлечься, прогнать томившую его мысль, или по ненасытной жажде узнать ближе, изведать достоинство незнакомых предметов и неиспытанных наслажденний, Рандаль Лесли, бывший до тех пор равнодушным к обыкновенным удовольствиям молодости, вступил в общество игроков и пьяниц. В этой компании дарования его постепенно исчезали, а направление их к интригам и разным предосудительным предприятиям только унижало его в общественном мнении. Падая таким образом шаг за шагом, проматывая свое состояние, он совершенно был исключен из того круга, где самые отъявленные моты, самые безнравственные картежники все-таки сохраняют манеры и тон джентльменов. Отец его умер, заброшенное имение Руд досталось Рандалю, но кроме расходов на приведение его в какой бы то ни было порядок, он должен был выплатить деньги, причитавшиеся брагу, сестре и матери. За тем едва ли что могло остаться в его пользу. Надежда восстановить фамилию и состояние предков давно для него миновала. Он написал в Англию, поручая продать все свое имущество. Ни один из богатых людей не явился, впрочем, на аукцион, не ценя высоко продававшегося имения. Все оно пошло частями в разные руки. Самый дом был куплен на своз.
Вдова, Оливер и Джульета поселились в каком-то провинциальном городке другого графства. Джульета вышла за муж за молодого офицера и вскоре умерла от родов. Мистрисс Лесли немногим пережила ее. Оливер поправил свое маленькое состояние женитьбою на дочери какого-то лавочники, который накопил несколько тысяч фунтов капитала. Долго после продажи Руда не было никаких слухов о Рандале; говорили только, что будто он выбрал себе для жительства или Австралию, или Соединенные Штаты. Впрочем, Оливер сохранял такое высокое мнение о дарованиях своего брата, что не терял надежды, что Рандаль когда нибудь воротится богатым и значительным, как какой нибудь дядюшка в комедии; что он возвысит падшую фамилию и преобразит в грациозных леди и ловких джентльменов тех грязных мальчишек и оборванных девчонок, которые толпились теперь вокруг обеденного стола Оливера, предъявляя аппетит совершенно несоразмерный их росту и дородству.
В один зимний день, когда жена и дети Оливера вышли из за стола и сам Оливер сидел, попивая из кружки плохой портвейн, и рассматривал несовсем утешительные денежные счеты; тощая лягавая собака, лежавшая у огня на дырявом тюфяке, вскочила и залаяла с остервененим. Оливер поднял свои мутные голубые глаза и увидал прямо против себя в оконном стекле человеческое лицо. Лицо это совершенно касаюсь стекла и от дыхания смотревшего узоры, нарисованные морозом, постепенно исчезали и стекла более и более тускнели.
Оливер, встревоженный и рассерженный, приняв этого непрошенного наблюдателя за какого нибудь дерзкого забияку и мошенника, вышел из комнаты, отворил наружную дверь и просил незнакомца оставить его дом в покое; между тем собака еще менее учтиво ворчала на незнакомца и даже хватала его за икры. Тогда хриплый голос произнес: «Разве ты не узнаешь меня, Оливер? я брат твой Рандаль! Уйми свою собаку и позволь мне взойти к тебе.» Оливер отступил в изумлении: он не смел верить главам, не мог узнать брата в мрачном, испитом призраке, который стоял перед ним. Наконец он приблизился, посмотрел Рандалю в лицо и, схватив его руку, не произнося ни слова, привел его в свою маленькую комнату.
В наружности Рандаля не осталось и следа того изящества и благовоспитанности, которые отличали прежде его личность. Одежда его говорила о той крайней ступени нищеты, на которую он низошел. Лицо его было похоже на лицо бродяги. Когда он снял с себя измятую, истертую шляпу, голова его оказалась преждевременно поседевшею. Волосы его, некогда столь прекрасные цветом и шелковистые, отсвечивали каким-то железным проблеском седины и падали неровными, сбитыми прядями; за челе и лице его ложились ряды морщин; ум его по-прежнему довольно резко выказывался наружу, но это был ум, который внушал только опасение – это был ум мрачный, унылый, угрожающий.
Рандаль не отвечал ни на какие вопросы. Он схватил со стола бутылку, в которой оставалось еще немного вина и осушил ее одним глотком.
– Фу, произнес он, отплевываясь:– неужели у вас нет ничего, что бы по больше согревало человека?