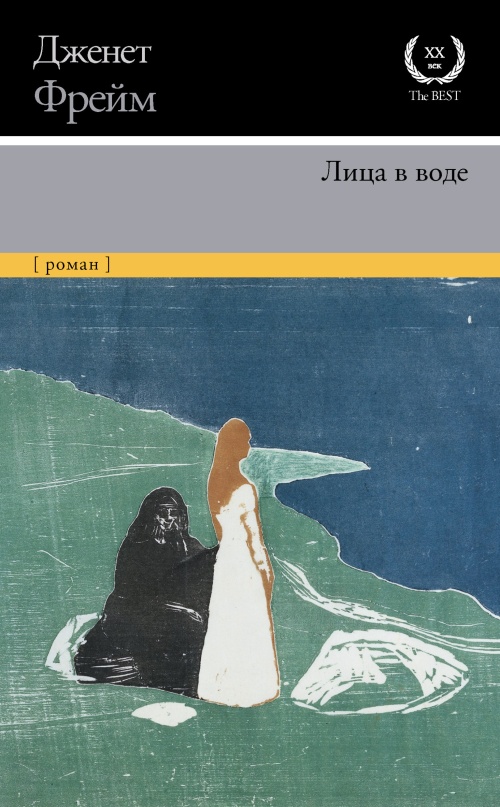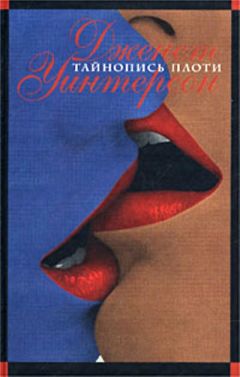и наблюдала за подопечными, чтобы в случае надобности утихомирить пыл пациента, которому было трудно устоять перед соблазнительной, но совершенно бесполезной покупкой.
«Не забывайте, что так у вас не останется денег на другие вещи».
Изобилие прилавков заставляло сердце биться чаще, а голову идти кругом, и все мои закупочные планы забывались, и, когда старшая медсестра торопила меня, я продолжала медлить, говоря: «Я хотела бы еще немного подумать», на что получала ответ: «Ну конечно, у нас же целый день на это есть. Вот что я вам скажу, барышня, я к чаю опаздывать не собираюсь».
Однажды Кэрол, которая больше обыкновенного говорила о замужестве, купила сверкающее кольцо с камнем – «настоящим брульянтом», которое она осторожно надела на «обручальный» палец.
«Ну вот, всё, – объявила она. – Почти замуженная».
Никто не возражал. Пробыв в больнице достаточно долго, как правило, теряешь острую потребность, считающуюся само собой разумеющейся во внешнем мире, выражать недоверие; бессмысленным, даже грубым, будет любой протест «Это неправда», когда ты уже осознал, что истина – что-то, что и так непоколебимо лежит в основе основы основ, и ей не требуется защита.
Кольцо Кэрол стоило три шиллинга и шесть пенсов, а на оставшиеся шесть пенсов она купила конфетки в форме сердечек пастельных оттенков, разных вкусов, с короткими нежными фразочками, которые Кэрол попросила Хилари прочитать вслух, потому что сама Кэрол так и не научилась ни читать, ни писать, и помощь ей была нужна даже с любовными письмами посвиненку. Сердечки щебетали: «Я тебя люблю», «Полюби меня», «Любимая» или «Любимый», «Без ума», «Всё отлично» и «Давай поженимся», причем мелкие буквы на последнем из них были тесно составлены, чтобы поместиться на ограниченной поверхности. Утихомирить Кэрол в тот день было невозможно: у нее было целых три повода для радости, и если бы она умела писать стихи, она могла бы воспеть их как-то так:
Кукушку с радугой вовек
Могу не повстречать я боле,
Покуда вечный хлад
Мне не закроет век [12].
Во-первых, «ручательное» кольцо с «настоящим брульянтом», что означает, что она «почти что замуженная»; во-вторых, целый мешок конфеток-болтушек, которые можно передавать через окно своему посвиненку, и даже, возможно, приберечь для какого-нибудь «красавчика», чтобы отдать ему на танцах в большом зале. И, наконец, любимая песня Кэрол, которую транслировали по радио и которой она рвано подпевала своим немелодичным голосом, вспоминая слова то тут, то там:
Волшебным вечером однажды повстречаешь незнакомца… [13]
В магазинчике я купила конфет, которые не хотела есть одна и поэтому раздавала другим пациенткам. Большая Бетти сделала мне выговор: «Истина, ешь их сама».
Конфеты, блокнот и новая ручка – я была полна решимости написать письмо.
В отделение номер два
Психиатрической больницы Клифхейвена.
Так я начала; а затем, осознав бесполезность послания чего бы то ни было кому бы то ни было в отсутствие адресата сообщения, я закрыла блокнот и убрала его в сумку из искусственной кожи, где хранила свои сокровища: томик Шекспира, который в забвении с каждым днем ветшал все больше, и «Сонеты к Орфею» на немецком и английском языках.
«Wolle die Wandlung, – прочитала я. – Возжелай превращенья».
Не только Рильке давал такой совет. Для врачей проводили консультации, и старшая медсестра Бридж намекала мне, что такая, как сейчас, я не могла дальше продолжать жить, что нужно было меняться.
То, что предпочло бы несуществованье,
Безопасным ли считает сумеречный, серый свой приют? [14]
Так могли бы мне прошептать, но для врачей был только один выход – бритая голова и глаза, огромные, темные, всматривающиеся во мрак.
«Возжелай превращенья! Пламенея, беспечалье познай!», – но беда в том, что слишком часто этим пламенем был нож для колки льда.
Каждый месяц к нам в больницу из института, что находился в городе, приезжала группа женщин, которых мы называли «тетеньками». Как правило, они были средних лет, в фетровых шляпах, в крепких туфлях на толстом каблуке, с большими сумками одинакового коричневого цвета, которые закрывались на замок с завитками из тусклой латуни, и, чтобы открыть, требовалось с усилием его повернуть, как будто поворачивая кран с водой. От тетенек пахло как от школьных учительниц на пенсии, смесью утраты и любви, схемами со стрелочками и мелким шрифтом со звездочкой, указывающим на текст внизу страницы, который был стерт. Во время осмотра общих залов они держались скромно, стайкой и, прежде чем обратиться к пациентке, смущенно, украдкой оглядывались. Они не знали, что и как говорить, обращаясь к нам; кто-то когда-то им сказал, что нужно все время улыбаться, вот они и улыбались застывшей улыбкой.
Мы чувствовали свою власть над ними, и некоторые из нас относились к ним с придирчивым презрением, потому что они, похоже, не могли решить, глухие мы, немые, умственно неполноценные или все вместе, поэтому, когда обращались к нам, повышали голоса, утрированно шевелили губами, выбирали самые простые слова, чтобы мы уж наверняка поняли. Иногда они помогали себе жестами, как будто мы были иностранцами, а они собирались посетить нашу страну и им очень нужно было научиться разговаривать на нашем языке. Им так хотелось чувствовать себя с нами непринужденно, получать радушный прием, сидеть и по-дружески болтать с нами. Их желание, чтобы их окружали улыбающиеся лица и радостные возгласы приветствия, вызывало презрение. Представить, как эти тетеньки цепляются за свои сумки, сидят целыми днями в больничной швейной мастерской или бродят по двору, не представляло особого труда; иногда казалось, что они потому и приезжали в больницу, что чувствовали сродство с нами.
«Здравствуйте! – восклицали они с душевностью, которая не могла скрыть их страх. – Хотите конфетку?» Доставали мешок конфет, доверчиво предлагали все сразу и, потрясенные, досадливо цокая, натужно улыбались, когда у них из рук выхватывали все подношение.
Благодарного собеседника они получали лишь в лице Кэрол. Все остальные, хотя и набрасывались на предложенные сладости, вели себя подозрительно и враждебно, особенно потому, что тетеньки слишком часто говорили невпопад, задавали слишком много вопросов, на которые не могло быть ответа, и пытались подбодрить людей, которые провели в больнице двадцать или тридцать лет, словами «Ну ничего, скоро уже домой, так ведь?». Кэрол говорила с ними, не сдерживаясь, без подозрительности, рассказывала о том, что делалось в отделении, делилась своими мечтами, что скоро она выйдет замуж и «выберется к чертям из этой дыры».