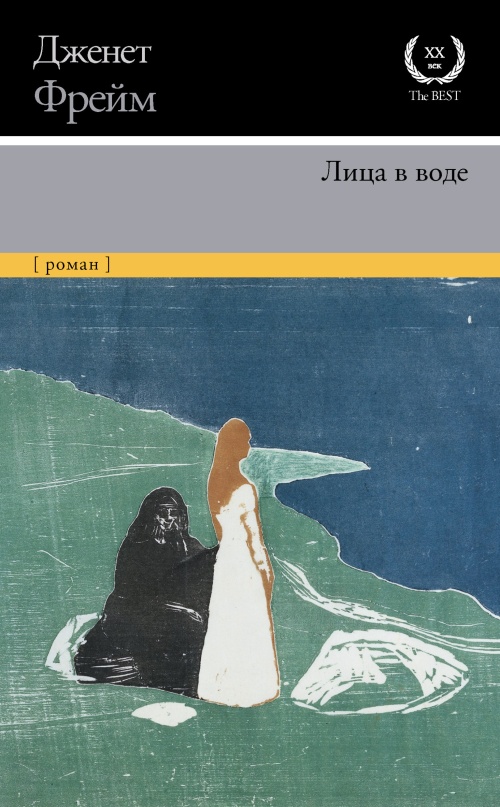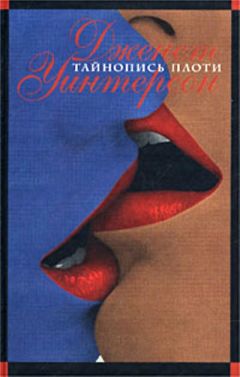вечную тень.
Иногда с удивлением можно было заметить осмысленный взгляд на лице Тилли, Лорны или кого-нибудь еще, но не дать ему снова исчезнуть было невозможно; должно быть, подобные чувства испытывает рыболов, догадавшийся по кругам на воде о присутствии радужной рыбки, которая непременно погибнет, если останется жить в этих нечистотах. Как изловить ее, не поранив? Но круги, расходящиеся от той сущности, что делает человека человеком, могут принимать формы протеста, депрессии, возбуждения, агрессии – проще оглушить красивую рыбку дозой электричества, чем подарить ей бережное обращение и переселить в воды, где она будет благоденствовать. И можно много часов и лет выуживать человеческую идентичность, сидя в своей безопасной лодке посреди затхлой лужи и стараясь не паниковать, когда долгожданная рябь чуть не опрокидывает лодку.
Я сбежала.
Солнце светило, просачиваясь теплом сквозь высокое облако, которое набухало и расползалось слой за слоем, как вата на синих противнях в духовке, а я лежала в парке на траве, глядя в небо, заткнув уши, чтобы заглушить шум и гам, и отворачивая глаза, чтобы не видеть износившихся и озверевших людей. Парк был просторный. Пациентки ходили или бегали по территории, огороженной высоким забором, там, где они протоптали дорожку больничного «стадиона»; или, как я сейчас, совершенно неподвижно лежали на сожженной траве. С вершины склона, где раскинулся парк, можно было видеть море, обдуваемое свежим и чистым воздухом. Кажется, была весна.
Мне так важно, чтобы было солнце; мне вспоминаются подсолнухи с их черными сердцевинами, опаляющей зубчатой короной и повадкой поворачиваться за светилом. Мне кажется, что с ума нас свело именно то, что у нас отняли солнце, которое когда-то выскребало тень нереальности из нашего мозга. Поэтому я готовлю поле и засеиваю его подсолнухами, и их тени мягко скользят по снегу, и я подбираю осколки потухших камней, которые когда-то были мыслями, полыхающими в атмосфере, стремящимися к поверхности земли метеорным дождем.
Я лежала в парке, водила рукой по коротким стеблям ржи и пырея и смотрела, как жуки кружат на границе сгоревшего леса; как живут своей жизнью ничего не подозревающие божьи коровки, которым поведают о пожаре в их доме и их детях в полном одиночестве; как влажные слепые синевато-розовые черви выползают из глубин почвы. В углу рядом со мной блаженно раскачивалась Тотти, зажав руку между бедрами; вдруг она начала кричать во весь голос: «Прекрати, Тотти, Тотти, Тотти», из нее вырвался душераздирающий стон, и она отдернула руку, всю в менструальной крови: ее нельзя было заставить пользоваться гигиеническими прокладками или носить брюки или туфли; иногда она срывала с себя всю одежду. Тотти было пятнадцать.
Не было ни одного места вокруг, где я могла бы спрятаться от несчастья. Иногда в своем воображении я одевала их в обычную одежду, стирала с их кожи ужасную печать больничной жизни, возвращала зубы в их рты, наносила макияж, вручала сумочки и перчатки, а потом наивно думала, что превратила их в обычных людей, тех самых, с которыми мы сталкивались и разговаривали на улице, не чувствуя ничего, кроме мимолетного отчаяния, вызываемого любой попыткой стать участником человеческой коммуникации. Но я не могла посметь изменить их мысли и чувства, которые знать могли только они сами. Что было у них на уме? Хоть я и фантазировала о том, чтобы очистить запачканную кожу и вставить зубы в беззубые десны, я понимала, что те мысли и чувства – «обычные», «нормальные», которыми я могла бы заменить их тайные мысли и чувства, имели бы меньшую ценность для истины, чем уединенные замкнутые миры, которые они для себя создали. Они были планетами, мчавшимися по собственным орбитам, и по их поведению невозможно было понять, когда наступает их личный день или ночь и как ведут себя их тайные приливы, описать их космические столкновения-бури-наводнения-засухи и положение силы.
Облака теперь неслись высоко в небе, гонимые теплым весенним ветром. Я сняла кофту и подкралась к той части ограды, которую скрывал навес для скота – полуразвалившаяся конструкция с кучками цвета хаки по углам, куда люди прибегали справить нужду, как собаки; затем я вскарабкалась на забор с таким бешено колотящимся сердцем, что не могла дышать, быстро перелезла и свалилась в кусты, которые выращивали за пределами парка, чтобы прятать мусор: засохшие остатки еды, ботинки, экскременты, тряпки – и чтобы скрыть печальное зрелище, какое представляла собой жизнь внутри ограды, от любопытных взглядов прогуливающихся чужаков или обитателей отделения для выздоравливающих, у которых иногда возникало желание посмотреть на «больных в парке».
Уж я-то знаю. Я сама была из таких любопытствующих. Однажды я наблюдала за небритыми мужчинами в рваной робе, перемещавшимися крадучись по парку, и не могла потом забыть овладевшее ими чувство безысходности; оно казалась глубже, чем у женщин, потому что куда-то исчезла вся мужская мощь и гордость; некоторые из них плакали, а в нашей культуре, кажется, мужчинам разрешено лить слезы только в случае самой страшной утраты.
Я вышла из кустов и медленно пошла по дороге мимо фермы, где жили санитары, все дальше и дальше: мимо большой кухни, морга, сторожевого поста и магазинчика при больнице. Я дрожала и готова была расплакаться. Наткнулась на Эрика, моего постоянного партнера по танцам, поприветствовала его: «Какой хороший день. Так здорово, что мне разрешили прогуляться».
Я надеялась, что он не обратит внимания на мои тапочки: он был из надежных пациентов, которые считали, что мы в больнице для «нашего же блага», и, если бы у него возникли подозрения, мог доложить обо мне.
Воздух был желтым от пыльцы с сережек и сладким от аромата боярышника, когда я покидала территорию больницы, через главные ворота, через решетку на земле, останавливающую скот, мимо дома доктора. Теперь я могла позволить себе дышать, я медленно прошла мимо местной школы с ее игровой площадкой, покрытой потрескавшимся и пузырящимся асфальтом, через который пробивалась ярко-зеленая трава, которую по пятницам выкорчевывали школьной мотыгой мальчишки из старших классов. Маленький мальчик брел из главного здания к туалетам, останавливаясь, чтобы шаркнуть или потоптаться по чему-нибудь, чтобы исследовать давно знакомый путь, превращая свое уединенное путешествие, честно добытое древнейшим заклинанием «Можно выйти?», в наивысшей степени долгое и захватывающее. Оставшиеся в классе пели заунывные песни стандартной школьной программы «Придите, девы» и «Словно прибой, стенающий в горе у берега» – элегию, которая в весенний день могла вызывать приступ ностальгии по диким зарослям буша, берегу моря и первозданной тишине. Я шла все дальше и наконец добралась до железнодорожной станции. Куда же я могла