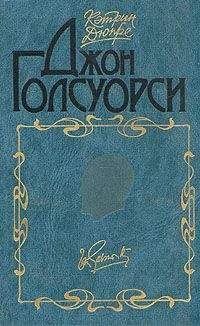- Скажите, что с вами?
Слезы, перестали течь, словно их остановил вопрос девушки. Женщина поглядела по сторонам, у нее были маленькие, серые, терпеливые глаза и странный, почти без переносицы, нос.
- У меня родился ребенок. Он умер... Отец его погиб во Франции. Я шла, чтобы утопиться. Но я испугалась воды, и теперь никогда не решусь на это.
"Никогда не решусь на это"... Эти слова потрясли Ноэль. Она протянула руку вдоль спинки скамьи и положила ее на костлявое плечо женщины.
- Не плачьте!
- Это был мой первенький. Мне тридцать восемь. У меня уже никогда не будет другого. Ах, почему я не утопилась!
Лицо ее опять сморщилось, и по щекам потекли слезы. "Да, ей надо поплакать, - подумала Ноэль, - ей надо поплакать, от этого ей станет легче". И она погладила плечо маленькой женщины, от которой шел запах старой, слежавшейся одежды.
- Отец моего ребенка тоже убит во Франции, - сказала Ноэль, помолчав.
Маленькие печальные серые глаза уставились на нее с любопытством.
- Правда? У вас есть ребенок?
- Да. О, да!
- Я рада этому. Это ведь так горько - потерять ребенка, правда? По мне уж лучше потерять мужа.
Солнце теперь ярко освещало это удивительно терпеливое лицо; однако Ноэль даже солнечный свет казался оскорбительным.
- Могу ли я чем-нибудь помочь вам? - прошептала она.
- Нет, спасибо, мисс. Я пойду домой. Я живу недалеко. Благодарю вас.
И, бросив на Ноэль еще один растерянный взгляд, женщина пошла вдоль набережной. Когда она пропала из виду, Ноэль вернулась на станцию. Поезд уже подали, и она вошла в вагон. Там было трое пассажиров, все в хаки; они сидели молча, сумрачные, как все люди, которым пришлось рано подняться с постели. Один был высок, черен, лет тридцати пяти; второй - небольшого роста, лет пятидесяти, с остриженными редкими седыми волосами; третий среднего роста, наверно, ему было за шестьдесят, на его мундире красовалась колодка со множеством разноцветных ленточек; у него была лысая, узкая, красивой формы голова с седыми, зачесанными назад волосами, сухие черты лица и висячие усы в духе старой военной школы. На него и смотрела Ноэль. Когда он выглядывал в окно или задумывался, ей нравилось его лицо; но когда он поворачивался к контролеру или разговаривал со своими спутниками, оно почти переставало ей нравиться. Казалось, у этого старика две души - одну он хранит для себя, а в другую облекается каждое утро, чтобы встретиться с внешним миром. Военные разговаривали о каком-то трибунале, в котором им предстояло заседать. Ноэль не слушала, но слово-другое изредка доносилось до ее ушей.
- Сколько их сегодня? - услышала она вопрос старика.
Невысокий стриженый ответил:
- Сто четырнадцать.
Ноэль еще живо помнила маленькую бедную женщину, переживавшую свое горе, и невольно вся съежилась, глядя на этого старого солдата с тонким красивым лицом; в его твердых и спокойных руках была судьба "ста четырнадцати"; и, возможно, это происходит ежедневно. Может ли он понять несчастья или нужды этих людей? Нет, конечно, не может! Она вдруг увидела, что он оценивающе разглядывает ее своими острыми глазами. Знай он ее тайну, он, наверное, сказал бы: "Девушка из хорошего дома, а так поступает! О нет, это... это просто ни на что не похоже!"
Она почувствовала, что готова от стыда провалиться сквозь землю. Нет, пожалуй, он думает о другом: "Такая молодая - и путешествует одна в этот ранний час. К тому же хорошенькая!" Если бы он знал всю правду о ней - как бы он глядел на нее? Но почему же этот совершенно чужой ей человек, этот старый служака, одним случайным взглядом, одним только выражением лица заставил ее почувствовать себя гораздо более виновной и пристыженной, чем она чувствовала до сих пор? Это поразило ее. Он, наверно, просто твердолобый старик, начиненный всякими предрассудками; но он словно излучал какую-то властную силу, заставляющую ее стыдиться - должно быть, он твердо верит в своих богов и беззаветно им предан; она понимала, что он скорее умрет, чем отступит от своей веры и принципов. Она прикусила губу и отвернулась к окну, рассерженная, почти в отчаянии. Нет, она никогда, никогда не привыкнет к своему положению; тут уж ничего не поделаешь! И снова она затосковала о том, что видела во сне; ей захотелось уткнуться лицом в куртку, от которой пахнет грубой шерстью, зарыться в нее, спрятаться, забыть обо всем. "Если бы я была на месте этой маленькой одинокой женщины, - подумала она, - и понесла такую утрату, я бы бросилась в реку. Разбежалась бы и прыгнула. Это простая удача, что я жива. Не стану больше смотреть на этого старика и тогда не буду чувствовать себя такой плохой".
Она купила на вокзале шоколад и теперь грызла его, упорно глядя на поля, покрытые маргаритками и первыми цветками лютика и кашки. Трое военных разговаривали, понизив голоса. Слова: "эти женщины", "под контролем", "настоящая чума" - донеслись до нее, и уши ее запылали. Переживания вчерашнего дня, бессонная ночь и эта волнующая встреча с маленькой женщиной обострили ее чувствительность; ей казалось, что военные и ее включают в число "этих женщин". "Если будет остановка, я выйду", - подумала она.
Но когда поезд остановился, вышли эти трое. Она еще раз почувствовала на себе острый взгляд старого генерала, как бы подводивший итог впечатлению, которое она произвела на него. На мгновение она посмотрела ему прямо в лицо. Он прикоснулся к фуражке и сказал:
- Вы желаете, чтобы окно было поднято или опущено? - И до половины поднял окно.
Эта педантичность старика только ухудшила ее настроение. Когда поезд тронулся, она принялась расхаживать взад и вперед по пустому вагону; нет, ей не выйти из такого положения, как не выйти из этого мчащегося вперед мягкого вагона! Ей показалось, что она слышит голос Форта: "Пожалуйста, сядьте!" - и почувствовала, как он удерживает ее за руку. Ах, как приятны были и как успокаивали его слова! Уж он-то никогда не станет упрекать ее, не станет напоминать ни о чем. Но теперь она, наверно, никогда с ним не встретится.
Поезд наконец остановился. Она не знала, где живет Джордж, и ей пришлось пойти к нему в госпиталь. Она рассчитывала быть там в половине десятого и, наскоро позавтракав на станции, направилась в город. Над побережьем еще стоял ранний рассвет, предвещавший ясное утро. На улицах становилось все оживленнее. Здесь чувствовалась деловитость, порожденная войной. Ноэль проходила мимо разрушенных домов. С грохотом проносились огромные грузовики. Лязгали товарные платформы, отгоняемые на запасный путь. В светлой дымке неба летали, как большие птицы, самолеты и гидросамолеты. И повсюду были хаки. Ноэль хотелось попасть к морю. Она пошла к западу и добралась до небольшого пляжа, там она села на камень и раскинула руки, словно стараясь поймать солнце и согреть лицо и грудь. Прилив уже кончился, на синем просторе моря видны были мелкие волны. Море - величайшее творение на всем свете, если не считать солнца; безбрежное и свободное - все человеческие деяния перед ним мелки и преходящи! Море успокоило ее, словно ласковое прикосновение руки друга. Оно может быть жестоким и страшным, может творить ужасные дела; но широкая линия его горизонта, его неумолчная песня, его бодрящий запах - лучшего лекарства не найти! Она пропускала меж пальцев зернистый песок, и ее охватывал какой-то неудержимый восторг; сбросив башмаки и чулки, она болтала ногами в воде, потом стала их сушить на солнце.
Когда она уходила с этого маленького пляжа, ей казалось, что кто-то ей говорит:
"Твои несчастья ничтожно малы. Есть солнце, есть море, есть воздух, наслаждайся ими! Никто не может отнять этого у тебя".
В госпитале ей пришлось прождать Джорджа полчаса в маленькой пустой комнате.
- Нолли! Великолепно! У меня как раз свободный час. Давай уйдем из этого кладбища. У нас хватит времени, чтобы погулять по холмам. Как мило, что ты приехала! Ну, а теперь рассказывай.
Когда она кончила говорить, он сжал ей руку.
- Я знал, что ничего не получится. Твой отец забыл, что он глава прихода и что его будут осуждать. Но хотя ты и сбежала, он все равно подаст прошение об уходе, Нолли.
- О нет! - крикнула Нолли.
Джордж покачал головой.
- Да, он уйдет - ты увидишь; он ничего не смыслит в житейских делах, ни капли.
- Тогда получится, что я испортила его жизнь, что я... О нет!
- Давай сядем здесь. Мне надо вернуться в госпиталь к одиннадцати.
Они сели на скамью, откуда открывался вид на расстилающееся вокруг зеленое взгорье; оно возвышалось над спокойным, теперь уже очистившимся от тумана морем, далеким и очень синим.
- Почему он должен уйти? - снова воскликнула Ноэль. - Теперь, когда я покинула его? Ведь он пропадет без своей церкви.
Джордж улыбнулся.
- Он не пропадет, дорогая, а найдет себя. Он будет там, где ему надлежит быть, Нолли, где находится и его церковь, но где нет церковников, на небесах!
- Не смей! - страстно крикнула Ноэль.