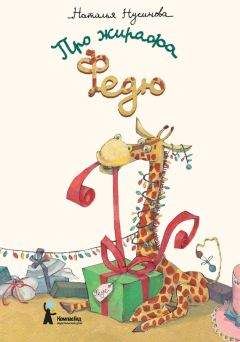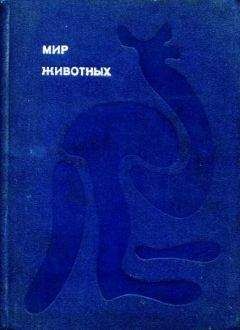Собственно говоря, выбор, который встает перед персонажами почти каждого рассказа «Сцен», – это, как ни парадоксально может прозвучать такое утверждение применительно к зайцам и медведям, кошкам и крокодилам, тот выбор, который вставал с самого начала перед всеми героями европейского романтизма. Какое существование избрать – полное приключений или мирно-патриархальное? взбунтоваться или искать счастье исключительно на «проторенных путях»? Последнее выражение взято из повести Шатобриана «Рене» (1802), заглавный герой которой – прообраз всех романтических разочарованных скитальцев XIX века. Однако хотя Шатобриан с очевидным сочувствием описывает скитания и терзания героя, кончает он свою повесть нравоучительной отповедью, которую дают молодому герою старый индеец Шактас вместе со священником отцом Суэлем: следует отречься от «необыкновенной жизни», приносящей одни лишь горести; счастье обретается на проторенных путях[90].
Легко сказать, но трудно выполнить. Сколько бы писатели романтического поколения ни убеждали себя и читателей в том, что страсть приводит к бедам, а бесстрастная патриархальность служит залогом счастья, все равно страсть под их пером остается привлекательной, а патриархальность – несколько бледной и вымученной. Эта оппозиция занимает особенно важное место в творчестве Бальзака. Она ясно различима, например, в романе «Воспоминания двух юных жен», который печатался в газете «Пресс» почти одновременно с выходом «Сцен» (с 26 ноября 1841 по 15 января 1842; отдельное издание – январь 1842). Это история двух подруг: страстной и безрассудной Луизы и рассудительной и умеющей владеть собой Рене. Рене выходит замуж без любви, но обретает счастье в мирной семейной жизни и воспитании детей; Луиза живет страстями и потому губит своей ревностью одного мужа, а затем умирает сама, потому что не захотела слушаться голоса разума и совершенно безосновательно приревновала другого. Отзвук этой коллизии особенно отчетливо слышен в «Переписке Ласточки с Канарейкой» Мари Менессье-Нодье, где Ласточка пишет подруге-домоседке: «Вы окружены детьми, которых обожаете самозабвенно; одним словом, Вы образцовая супруга и мать; я так высоко не мечу. Если бы мне пришлось жить в окружении этих несносных маленьких крикунов, которые все время чего-то требуют, причем, как правило, все одного и того же, я бы наверняка умерла от усталости» (с. 482), но затем, разумеется, убеждается в правоте этой самой подруги.
Если Бальзаку по-своему милы обе жизненные стратегии: и «мудрая», и «страстная», и именно напряжение между этими двумя полюсами обеспечивает глубину его романам, то другие авторы, писавшие в начале 1840-х годов, решали вопрос проще. В 1842 году журналист Луи Ребо выпустил роман «Жозеф Патюро в поисках своего места в обществе»; это история скромного буржуа, который пробует себя в самых разных ролях – от поэта-ультраромантика и сенсимониста до директора акционерной компании и журналиста – и в результате возвращается к доставшемуся по наследству ремеслу шляпника. Роман имел успех, и в 1846 году вышло его новое издание, иллюстрированное, между прочим, не кем иным, как Гранвилем; так вот, рекламный проспект этого издания утверждал: «Нe все Патюро возвратились к семейному прилавку или семейному плугу; да поможет перо сатирика вернуться на путь истинный всем тем, кто еще не погиб окончательно»[91].
И вот именно для проповедования этой патриархальной морали оказываются чрезвычайно кстати фигуры животных с их природными «репутациями». Здесь пригождается уже не старая «зоофизиогномика» с ее символическим воплощением человеческих характеров в фигурах животных, но своего рода зоологический фатализм: каждое животное в природе повинуется своему инстинкту, и потому в реальной жизни, в отличие от художественной литературы, коты не основывают «крысолюбивое общество» (как в бальзаковских «Сердечных страданиях английской Kошки»), а ослы не занимаются преподаванием (ну разве что в переносном смысле); в природе каждый сверчок знает свой шесток и покинуть его не стремится[92]. В 1830-е годы во французской литературе зоологическая метафора обретает новую функцию: литераторы и мыслители используют ее для подкрепления собственных социальных концепций и для опровержения утопических реформаторских теорий. Впрочем, и сами утописты тоже охотно прибегали к сравнениям с животным царством. Характерен в этом смысле пример Шарля Фурье, с которым язвительно полемизирует Этцель/Сталь в рассказе «Жизнь и философические мнения Пингвина». Фурье предлагал людям учиться у животных, которые трудятся не из-под палки, а с удовольствием (так бобры, например, строят плотины[93]), а в своей книге «Новый промышленный и общественный мир» (1829) построил целую систему аналогий с животным миром, с помощью которых доказывал правильность своих суждений о человеческом обществе: улей служит ему примером полезной ассоциации, а осиное гнездо – вредной, паук с его паутиной – это символ лживой торговли, препятствующей свободной конкуренции, орел и ястреб – великие существа, которые достойны царствовать, а страус (тело без головы) – пример существа крупного, но царствовать недостойного и т. д.[94] Так вот, Этцель в «Жизни и философических мнениях Пингвина» обращает против Фурье его собственное оружие. Апелляция к инстинктам животных помогает ему опровергнуть утопические идеи Фурье о возможности всеобщего счастья: куница, которой отдали «на воспитание» куриное яйцо, непременно съест либо яйцо, либо едва вылупившегося цыпленка; такова ее аттракция (фурьеристский термин, означающий природное влечение), и с этим ничего не поделаешь; такой куницу создала природа[95].
Авторы «Сцен» едва ли не завидуют животным, которым не надо выбирать себе стезю и образ жизни, ибо все это дано им от рождения. В этом отношении очень показателен финальный монолог Анны, героини рассказа Бальзака «История любви двух Животных»: «В природе никто не думает о деньгах, все слушаются только инстинкта и так неукоснительно движутся по раз и навсегда намеченному пути, что, хотя жизнь течет очень однообразно, никаких несчастий в ней не случается» (с. 544). В рассказе этом изображены параллельно события из человеческого мира и из мира насекомых; так вот, насекомые проявляют чудеса героизма и идут на подвиги ради своей любви – однако все это следствие не свободного выбора, а их природы, которой они изменить не способны; ничто не может свернуть их с «проторенных путей», и Анну печалит то прискорбное обстоятельство, что люди не всегда умеют вести себя с тем благородством, которое насекомым присуще, выражаясь современным языком, «по умолчанию».
Итак, зоологическая метафора призвана показать иллюзорность политических утопий и романтических порывов; на примере животных сделать это оказывается куда проще, чем на примере людей: понятно, что кот-фантазер, который в «Сердечных страданиях французской Кошки» утверждает, что «однажды Мыши устроят революцию и свергнут Кошек и что они поступят очень правильно» (с. 461), – не более чем пустой прекраснодушный мечтатель. А Лис, как бы горячо он ни любил Пеструшку, в конце концов «слопал бы свою милую» (с. 292).
Но «Сцены» были бы занудным нравоучительным трактатом, а не остроумной блестящей прозой, если бы эта патриархальная мораль проповедовалась в них напрямую, в лоб. Между тем прелесть «Сцен» состоит в том, что это проза игровая: в ней происходит постоянное перетекание звериного в человеческое и обратно (примерно так же, как в рисунках Гранвиля человек перетекает в зверя, а тот – в человека). Животные существуют вроде бы в своих, вполне звериных обстоятельствах и решают звериные проблемы, но их мир не просто находится рядом с человеческим, но одновременно повторяет и пародирует его, примерно так, как представление в театре зверей в рассказе Жанена пародирует драму Виктора Гюго. «Мораль» корректируется иронией (которая неизбежна уже потому, что высокие моральные принципы прописываются не кому иному, как кошкам, крокодилам или ослам), но смех, однако, не исключает морального смысла.
Дальнейшая судьба «Сцен» сложилась сравнительно удачно. Первый раз книга была переиздана в 1852 году в том же составе, но в одном томе (мелким шрифтом в две колонки, с иллюстрациями прямо в тексте, а не на отдельных страницах) в серии «Шедевры литературы и иллюстрации» – не у Этцеля, а у другого парижского издателя, Мареска, которому Этцель после вынужденной эмиграции в Бельгию продал права на издание[96]. В 1867 году Этцель, к этому времени уже возвратившийся на родину, сам выпустил, также в одном томе, «исправленное и дополненное» издание «Сцен» (впрочем, как раз слово «Сцены» из названия исчезло; книга теперь называлась «Частная и общественная жизнь животных»)[97]. В издании 1867 года изменена композиция и снято предуведомление издателя; в него включены несколько новых рассказов Гюстава Дроза, для которых иллюстрации выкроили из прежних, иначе распределив по тексту (Гранвиль к тому времени уже умер и не мог нарисовать новые картинки). Этцель еще раз выпустил «Сцены» в этой форме в 1880 году.