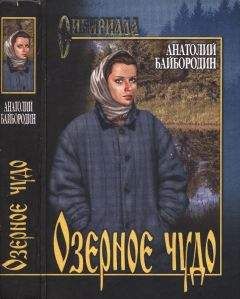Ознакомительная версия.
— Дарима здесь? — спросил он Галсана, но тот не расслышал или, спохватившись, не желал трогать сокровенное, да и печалясь нынче о другом.
— Зачем твоя папка кочевал, яй-я-яй! — сокрушался он. — Ку-налей — путняя тайга нету, озеро нету, охота, рыбалка нету, — худой, паря, жись. Лазарь — большо-ой тала[77] был. Архи пили, — с лукавым подмигом щелкнул себя прямо в острый, играющий кадык. — Папка говорил: архи пил — бревно лежал, сай пил — далёко бежал. Лазарь шибко, паря, хитра был. Еврей дразнили… Наша брацка тоже хитра, а папка твоя дедушка моя карта надувал, вся мунгэ[78] карман клал. По-бурятски шибко толмачь был. Пошто тебя не учил?!
Даже с горем пополам владея русской речью, балагуристый Галсан наговорил бы с три короба, но тут приспел Баясхалан, — высокий, суховатый, загодя стриженный налысо, под Котовского, — и, тиснув Елизарову ладонь, по-бурятски коротко, сердито выговорил захмелевшему отцу, отчего тот суетливо покивал головой и, скорбно присутулившись, посеменил во двор, охваченный низким, в три прясла, жердевым забором.
Посреди травянистого, испятнанного цветами-желтырями, вольного двора белели под брезентовым пологом наспех сколоченные столы, на свежеструганых столешницах которых уже поблескивали батареи бутылок, гуртились тарелки, стаканы, глубокие фарфоровые пиалы, привезенные из Монголии, где у Дугарнимаевых кочевала близкая родня. В дощатой летней кухне — крытой степной дерниной, заросшей быльем-ковыльем и желтырями-одуванами — вовсю шла варка и парка, а подле летней кухни горел тихий, но жаркий костер, языки которого лизали подвешенный на треногом железном тагане дородный котел, где, судя по двум овечьим шкурам, распяленным на избяном срубе, спела баранина, варенная бухэлёром, — щедрыми кусками, какие еще не всякий мужик в один присяд одолеет. Крутились возле костра и летней кухни молодые бурятки; степенно и праздно похаживали, понукая молодых, старухи, разнаряженные в яркие халаты-дэгэлы с блескучими медными застежками, отороченные по вороту курчавой белоснежной мерлушкой.
Махонькая, стриженная налысо шабаганца[79], одервенев от древности, грела ветхие кости у огня; сидела, подмяв под себя ноги, изредка потягивая коротенькую черную трубочку и смачно поплевывая. Может, она думала, высматривая в синеве небожителей: всё на земле суета сует и томление духа; скоро… теперь уж скоро сгорит ее омертвелая плоть на таком же костре и под заунывную, заупокойную песнь бродячего ламы сизым дымом повеется ее тихомирная душа в голубую долину предков. Шаба-ганцой русские ласково дразнили малых чад, коих тоже стригли налысо «под-котовского», и если старуха была уже духом в мире ином, то малое дите, не набравшись взрослых грехов и порок, еще пребывало в ангельском мире.
Баясхалан не успел посудачить с дружком — окликнутый матерью, ушел в дом; Елизар же, не высмотрев знакомцев, послонялся возле гурта и выбрел на Бадму Ромашку. Несвычно для степняков долгоногий сухой парень сидел на завалинке и, примостив на колени папку, быстро, но мягко рисовал на шершавом листе.
Прозвище Ромашка пристало к Бадме Цыдыпову в школьную пору… То ли уж оголец набедокурил, то ли уж учился в малых классах худо, но только вызвали в школу его родителя, который кочевал в степи с овечьей отарой. Учительница, от войны убежавшая с Украины в русско-бурятское село, уродилась неженкой и привередой, и дразнили ее позаочь Жабой, коль фамилия — Жаботинская. И вот, значит, вызвала Жаботинская родителя Бадмы и зло отчитала: мол, надо вашему Бадме голову чаще мыть — пахнет… Отец усмешливо глянул на учителку и вздохнул: дескать, Бадма — не ромашка, Бадма нюхать не надо, Бадма учить надо… Долетело до ребячьих ушей про Бадму и ромашку, вот и прилепилось к парню прозвище, да так крепко приросло, что не отмыть, не отскрести. Но, опять же сказать, и характер Бадмы не в пример молодым задиристым бурятам уродился тихий и ласковый — одно слово, Ромашка.
Отбегав восьмилетку, смалу привалившись к рисованию, Бадма Ромашка укатил в Иркутск и, как вырешило село, обернулся назад взаправдашним художником. Бог весть, какой из паренька вызрел живописец, но Елизар подивился, когда, нынешней зимой шатаясь в городе Улан-Удэ, залетел чудом в художественный музей и вдруг высмотрел среди прочих три картины Бадмы Ромашки. Сперва не поверил глазам, снова да ладом прочел подпись на тяжелой резной раме: «Ба-дма-а Цы-ды-пов». Вгляделся в картины и… вдруг опалился виной и нестерпимой тоской по родимой деревне, словно по старой матери, одиноко и терпеливо ждущей блудного сына; из сиреневой, голубоватой предночной дымки, из сероватых сумерек глянула на Елизара степь печальным материнским оком — укорила шатуна, и тут же пожалела; увидел он виданную-перевиданную степь разбуженной любовью — белесую, сухую, замершую в ожидании сокровенного Божьего чуда; увидел и висящего над сиротливо темнеющей березой (онго хухан) бесприютного коршуна и жмущихся друг к другу низкорослых коней-степняков, — хвосты их треплет шалый ветер; увидел и бараний гурт с юртой в туманной утренней долине, и девушку-бурятку, спящую среди блеклых трав и тусклых, предосенних цветов, уснувшую, положив седло в изголовье и укрывшись брезентовым дождевиком, — на губах ее, во сне отмякших и отпахнутых, зорево теплится улыбка…
Елизару не верилось, что степь живописал Бадма Ромашка, чудной, хмурый, хотя и добрый деревенский парень; но сейчас поверил, когда высмотрел, как плавно и певуче оживал под карандашом вольный травяной двор с костром и прокопченным котлом, с одервенело спящей возле огня старухой-шабаганцёй, с пожилой буряткой в дэгэле[80], которая мешала деревянным черпаком в котле и туго жмурилась от дыма, отчего глаза ее таяли в рыхлых щеках.
Елизар поздоровался, прищуристо вглядываясь в рисунок.
— Ты уже училище окончил?
Бадма Ромашка кивнул, не глядя на Елизара, то яро, то плавно шоркая карандашом по серому листу.
— Здесь будешь работать, в деревне?
— В школе, — неохотно ответил Бадма Ромашка.
— А я на выставке твои картины видел… — и хотелось Елизару поведать тогдашние ощущения, но рисовальщик лишь покосился на парня и опять уткнулся в изрисованный лист. Тогда у Елизара вдруг само по себе сорвалось с языка: — Не знаешь, Дарима придет на проводины?
Карандаш, словно запалившись, вильнул по бумаге и замер.
— Должна… — отозвался Бадма Ромашка, пристально, исподлобья всмотревшись в Елизара. — Брат уходит в армию…
— Давненько я ее не видел, — еще нарочно…бес тянул за язык… чтобы подразнить Бадму Ромашку, вздохнул Елизар… и пожалел, — парень усмешливо оглядел его с головы до ног и отвернулся.
* * *
Ближе к вечеру, когда жара приникла к травам и с голубого озера Хухэ нуур навеялся пахнущий болотной ряской прохладный ветерок, когда наконец все напитки-наедки сметали на столы, и гости чинно расселись; тукал движок, — под брезентовым пологом блекло и хворо на дневном свету запалились пузатые лампочки; их сразу же потушили, но тут, пошипев, похрипев, заиграл умощенный на завалинке магнитофон, — диво в конце шестидесятых для глухоморной Яравны. Гости вытаращились на хрипящий ящик, и над сухими овечьими травами взвился в синеву задорный голос:
Хмуриться не надо, лада,
Для меня твой смех награда,
Лада!..
Галсан, уже сидящий за столом, натужно прислушался к плясовой песенке, потом осерчало замахал рукой, и «ладу» пришлось укротить, — в стаканы уже по самые края налили архи, и родичи новобранца уже выдумали протяжные, как степной ветер, здравицы, хитромудрые наказы и посулы. Когда гости угомонились, поднялся старик, венчающий застолье, вскинул лицо, изморщиненное вдоль и поперек, взблескивающее потом, которое казалось круглым от того, что голову старика крыла лишь чуть приметная седая щетина. Старик распевно, сухой ладонью отмахивая к застолью гортанные слова, заговорил, и гости шумно поднялись с лавок, слушали в полной тиши, тиская пальцами граненые стаканы. Похоже, старик вышел головным гостем, — перед ним на деревянном блюде желтела вареная баранья голова, рядом млела отварная грудинка (убсуун) вместе с бедренной костью (можо сэмген), обложенной шейными позвонками.
Потом уже краснобаяли все кому не лень, у кого язык маломало подвешен, но Баясхалан-новобранец, как приметил Елизар, пускал подблюдные здравицы мимо ушей, сутуло и отрешенно ютясь подле сухонькой, стеснительной буряточки, про какую Елизар слыхом не слыхивал, но однажды видел в кино рядом с Баясхаланом.
А наказы и посулы не иссякали, словно говорливый хмельной ключ, сверкая на солнце, бил из глубинных недр. Ухвативший из бурятского поговора лишь самые ходовые выраженьица — вроде «шыры бы, угы?..»[81], да, грешным делом, сластолюбивое: навро-де: «шы намэ талыштэ»[82] — Елизар попервости мастерил на лице слушающий, словно все понимающий вид и вместе со всеми хохотал…может, над самим собой… дружно гомонил, но потом, с разгону охмелев, улыбался и мотал курчавым чубом уже невпопад, и когда Баясхалан удивленно, осуждающе глянул на него, — махнул рукой и, уже не оглядывая застолье, навалился на еду, благо есть чем ублажить скучающее чрево. Живущий лето без отцовского и материнского призора, кормился парень так-сяк: то в чайной, то у старой тетушки Ефимьи; теперь же, дорвавшись до обильного харча, без всякого стеснения так уписывал, что за ушами пищало.
Ознакомительная версия.