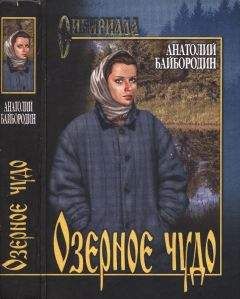Ознакомительная версия.
Раннее детство Елизара прошло в семейском[67] селе Большой Куналей, а уж отрочество и начальная юность — в лесостепной, озерной Еравне…по-русски — Яравна[68], по-бурятски — Ярууна… в притрактовом селе Сосново-Озёрск, где причудливо сплелись русские и бурятские обычаи, обряды, речения, ибо выросло село от слияния двух старожильческих поселений: приозерной деревеньки Сосновка и степного улуса Улан-Еравна[69].
Минуло полвека, и вспоминал Елизар братских степняков с печальным вздохом: увы, увы, городская…узкоголовая, козлоногая… поросль русских и бурят, скачущая под тарабарщину и ор басурманского беса, раструсившая на скаку родимую речь и
родовую память, уже не умела жить меж собою в ласковом ладу, как жили их таежные, степные и таёжные предки. Елизар теребил инистую бороду, посеченную на горестных ветрах, и явственно видел яравнинских земляков и смуглую девушку, плывущую сизым утренним туманом и под песнь степного жаворонка растаявшую белым миражом.
* * *
…Елизар не приметил, как очутился на краю деревни, где по-старушечьи лепились друг к другу замшелые, подслеповатые избёнки, сквозь щербатые тыны обдуваемые вольными ветрами. И оторопь взяла, когда вывернул за околицу и уткнулся обмершим взглядом в степные увалы, зелеными горбами текущие в голубое приволье. Кажется, вчера степь, с которой вешним припеком слизнуло снег, почивала, седая и скучная, чернеющая сиротскими заплатками…ребятишки, пуская пал, выжгли сухие, лоняшние травы… ныне же степь, очнувшись от долгого сна, омолодилась, зелено и сочно налилась щекастыми холмами.
Елизар обмер, зачарованно улыбаясь, в диве покачивая головой, и, как случается в юную пору, вместе с полыхающими зеленями и сердце ущемилось в сладостном, вешнем ожидании. Оглядевшись, с улыбкой подмигнув степной благодати, скинул куцый пиджачишко, расстегнул белую сорочку и, подставляя сопревшую грудь холодящему ветерку, метя траву штанами-клешами, пошел веселее и ходче, почти зарысил, правя на одинокую березу, неведомо как и когда выбредшую из далеко синеющего перелеска прямо на взлобок затяжного увала. Хотелось бежать по степи, распластав руки орлиными крыльями, а потом упасть и зарыться лицом в сырую траву.
Елизар любил степь — и в зеленой мураве, и белую, сухую — сагаан гоол и сагаан хээрэ, любил во всякую пору, хотя глянешь зачужевшими глазами: батюшки мои, кругом голь голимая, а из живности — коршун висит в поднебесье да суслик торчит или мечется промеж нор. Безотлучно проживший в Яравне детство и отрочество, Елизар любил степь нежнее, чем тайгу по хребтам и падям: в степи воля мечтательному взору и блаженному воображению, да и гнуса отродясь не водилось, — ветерком отдувало.
Бабье лето… В семейском селе Большой Куналей Елизар Калашников отжил раннее детство, а когда родители укочевали в Еравну, летами прохлаждался у бабки с дедом; и помнится, бабье лето отводили со дня Семена-летопроводца до Рождества Богородицы. Семейские деды поговаривали: «Семен лето провожает, бабье обряжает», и примечали: «Если первый день бабьего лета будет ясным, то вся осень выйдет теплая и ведренная». Бабье лето бабам — хлопот полон рот: чтобы одеть домочадцев в посконные рубахи, с Семена-дня мяли посконь — бессемянную коноплю. У кого добрая конопелька, у того звонкая копейка. Посконь убирали в цвету с Ильина дня и расстилали на пашнях и покосах, дабы вылежалась под дождем и солнцем. После сушили в банях и о бабьем лете мяли. Отзвенит морозами зима, отвоет вьюгами, вспенится вешняя черемуха белым цветом — вымачивали холсты, валиком выбивали и опять сушили.
С Семена-летопроводца улетали в теплые края журавли и гуси, и со светлой печалью провожали их девицы на выданье, прощаясь с беспечальной жизнью под ласковым отеческим приглядом, под теплым материнским крылом. Бабье лето днями потело — страда, а вечерами — пело: посиделки, супрядки, засадки, досветки, вечерки, полянки, где женихи высматривали себе путних невест; от Семенова дня до святого Гурия, до холодного Рождественского поста — свадебные недели. Семейские спешили отдать девку замуж, парня женить, дабы удалить от соблазнов холостой жизни.
Вспомнилось, на Семенов день — дитя постригай и на коня сажай; и в лад древлему свычаю, Елизару отец с кумовьями свершили постриг и сажание на коня. Для сего созвали родичей, пригласили Елизарова кума с кумой. После молебствия отец подал куму ножницы, и кум выстриг у крестника Елизара гуменцо. Выстреженные волосы кума передала матери, которая зашила их в ладонку и сунула на божницу за древлие образа. Потом кум и кума вывели крестника на двор, где отец ожидал с конем, а мать расстелила для них ковер. Здесь кум, на ковре, передал крестника отцу с ласковым словом, и отец, принял сына с поклонами, посадил на коня: «Не падай, мужик… Как гу-тарят казаки: либо грудь в крестах, либо буйная головушка в кустах…»
* * *
До бараньего гурта — неближний свет, и, чтобы окоротить дорогу, не утомиться, Елизар пошел с песнями. Вольно, невольно, из памяти выплескивались песни громкие, прокатистые, какие бы впору тянуть голосистым девам да зычным мужам, а не ему, которому медведь-бахалдэ ухо оттоптал и Боженька голосу не дал; но в гольной степи некого было стесняться, и парень ревел, словно бычок-сеголеток, учуявший волю и густую траву, драл горло со всей своей обрадевшей моченьки:
Вижу горы и долины,
Слышу трели соловья,
Это русское раздолье,
Это родина моя!..
Он кисло морщился, досадливо передергивал плечами, тряс кудлатой русой головой, коря свою дырявую память, из которой на жизненному скаку вытрусились песни и остались лишь охвостья, — куплет, другой, вот и вся песня. Но петь хотелось, и он на много ладов, набив оскомину, отгорланил одни и те же куплеты, какие чудом прицепились к памяти, и, осипший, взмыленный, уже с частушками подвалил к сиротливой березе.
Обряженная с вершины и до закопченного комля пестрыми лоскутками, вязочками, пучками конских волос, одинокая береза, не уродись она кривой, по-бабьи осадистой, а удайся тоненькой и ладной, то, увеселенная листвой, походила бы на кумушку-березку, какую в Троицу носят девки, припевая и пришаркивая чёботами, вплетая в березовые космы багрецовые, васильковые ленточки, приладив на вершинку девий плат или ромашковый веночек. Но не обыденной березой жила на вершине увала и эта, упестренная лоскутками, в дивную, неведомую пору, как прикинул Елизар, залетевшая сюда крылатым семенем, а потом маетно, с Божьей подмогой раздвинув корнями убитую твердь, достав из глуби скудную сырость, быстро заматерела и остарела.
Солнышка на голом, угревистом темени хватало за глаза, и не нужно было тянуть вершину к свету, как в тесной березовой тайге, поэтому вековуха наподобие бабы-квашни раздалась вширь, оплыла, навесила крученые-верченые, толстые сучья над увалом, поросшим колкой и редкой щетиной, оболокла древнюю плоть в толстую, морщинистую кору, чтобы не иссохнуть в знойных суховеях, не ознобиться на метельных ветрах. Но, может, береза и не явилась на голой сопке летучим семенем, а изначально росла тут, посреди родного белого племени, сгинувшего под мужичьими топорами или укочевавшего в баян гоол, — в богатую долину, оставив ее одну на гребне увала, пропеченного солнцем, продутого семью ветрами. И, похоже, за принятые муки, за бобылью старость степняки повеличали ее святой березой — онго хухан — и понесли на табисун[70] — свои дары и шаманские мольбы; здесь буряты давали и себе, и коням отдышку; спешивались, сползали с телег и сёдел, привязывали к березовому суку тряпицу или клок волос с лошажьей гривы, потом, кинув под комель медный пятак, папиросу, садились, подмяв ноги под себя, и просили у небожителя, якобы незримо кружащего над берёзой, легкого пути и удачи. А уж после, плеснув на опутавшую комель иссохшую траву глоток огненной воды, сами выпивали с духом на пару; но перед тем как пригубить медную чарку, макали палец в водку и брызгали на все четыре стороны степного света. Пошаманив, отпотчевав степноликого идола — бурхана-небожителя, трогались и тянули нескончаемую, как степь, бурятскую песнь, где поется обо всем, что тихо проплывает перед дремлющим взором. Русские мужики, взросшие без спасительной веры Христовой, но суеверные, ведом не ведали про нашепты-заклинания, что бормотали старожильные буряты, смиренно сцепив иссохшие бурые ладони, а не ведая, все же почитали березу священной и старались хотя бы подпоить, задобрить сребролюбого пьяницу-бурхана: мол, русский Бог нам завсегда поможет, а ежели еще и бурятский подсобит, дак, паря, не жись пойдет… малина охальная. Молодым русским бурхан на таёжном хребте и степном увале — повод «взбрызнуть», выпить, хотя, бывало, и потехи ради пошепчут, ернически закатывая глаза: «Шани-мани на бурхане…» Но пожилые русские не признавали шаманских болванов, и, сроду не забывающие святоотеческую веру, сотворив Христову молитву перед дорогой, молча проезжали мимо березы; иные, чураясь суверений ради Христовой веры, еще и ворчали: де, и что за духи, ежли водку дуют, табак курят, серебро и тряпьё любят?! Может, им ишо и голу блудню под берёзу посадить.
Ознакомительная версия.