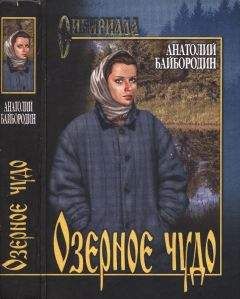Ознакомительная версия.
Елизар помянул с улыбкой: однажды, выехав на мотоциклах в березовую гриву, выпивали с деревенскими дружками, и потом смеха ради распластали измазученные тряпки на узкие лафта-ки и нарядили ими пару кривоногих, малорослых берез; а через год диву дались — вот уже и святая бурятская пазуха, и с полдюжины берез пестреют тряпичным лоскутьем, подобным тому, из которого деревенские старухи ткали и плели тропки да круги и застилали ими избяные половицы.
Елизар замешкался подле вековухи, глядя, как плещутся на ветру давнишние лохмотья, изжеванные метельными ветрами, застиранные моросящими и ливневыми дождями, облинявшие на низком и белом солнце, безбожно пекущем посреди лета; наглядевшись, хотел было по детской пакостной привычке пошукать в траве заплесневелые зеленые медяки, но тут же спохватился: старики баяли, мол, руки отсохнут. Усмехнулся и, нащупав в кармане мелочь, метнул к изножью вековухи копейку, и на этот мелкий грош, ничего путного не придумав, смеха ради испросил у бурхана, чтобы повеселиться ему нынче всласть на проводинах друга и, конечно же…самое азартное хотеньице-веленьице даже в себе убоялся прошептать, дабы не спужнуть удачу, хотя… хотя перед туманными глазами крутобоко и полногрудо слепилась из кочующего миража русокосая, щекастая дева и поманила… поманила раскосыми, иззелена-голубыми, лукавыми глазами. Чтобы манящее видение не развеялось сизой дымкой, Елизар тихо осел в траву подле коновязи, прозываемой сэргэ, — толстой, добела вышарканной жердины, уложенной на вкопанных столбах, — и, умостившись половчее, подумал с довременной кручиной, да и не заметил, как сам с собой заговорил:
— Неужли ж вот так и просвистит молодость, и не встретится… — а дева, отмахнув косу на вздыбленную грудь, сжатую тонким ситчиком, косилась на него взыгравшими очами, поваживала круглыми плечами и звала, звала, манила… — Да-а, паря, такую бы отхватил… сдурел на радостях. Да-а… Нет, — степенно рассудил Елизар, — пусть бы не из красы, но чтоб девка так девка была, не сухостойная какая. Эх-ма!.. А то, чего доброго, попадет замористая — не обнять, не прижать… Эдакую бы… с косой… Да позарится ли на меня?..
Со вздохом глянул на себя девьими глазами: коренастый, до срока по-мужичьи закряжевший, с короткими, по-казачьи кривыми, загребистыми ногами, — карапет не карапет, а и ладного роста Бог не дал, да и лицо — по-бабьи пухлое, с мелкой нашлепкой носа, — тоже красой не наделил, разве что светлые космы завил в стружку. Поморщившись, Елизар сплюнул в траву и стал высматривать чернеющий возле березового перелеска бараний гурт, где уже виделась изба чабана и приземистая кошара для овец, тесовой крышей почти упертая в землю, с жердевыми загонами вокруг.
Если на гребне увала-добуна желтел оронгой — пастбище со скудной, щетинистой травой, где кормились лишь овцы, да и то не всякое лето, то внизу, где увал расправлял горб и сочнели высокие травы, пестрели яркие цветы, зелено отпахивалась унга или хангал дайда, — благоухающая земля; там, неподалеку от степного родника — хээр булаг, налившего чашу большого лога и родившего приболоченное синее озерко-тором — хухэ нуур, жили и пасли отару овец родители Елизарова дружка и однокашника Баясхалана Дугарнимаева. Его нынче забрили во флот, и Елизар торопился на обжорные хмельные проводины.
* * *
Намозолив ступни в узеньких, остроносых полуботинках, паренек все же добрел до айла[71], что вольготно нежился посреди хангал дайды — благоухающей приозерной долины. Возле похожей на барак низкой избы, рубленной из сосняка-тонкомера, уже постаивали два пропыленных «козла», — так дразнили в деревне брезентовые газики; рядом с ними поуркивал незаглушенный грузовик, а ближе к кошарам, еще не выпряженные из телег, подремывали на вечернем припеке три малорослые, мохноногие лошаденки; и вокруг уже похаживали принаряженные гости, сбивались в гомонящие, курящие стаи, нетерпеливо косясь на голые дощатые столы. Над столом висели лампочки, кои запалят, когда из белой степи натекут сумерки; но движок, источник света, уже тарахтел под навесом.
Елизар, не высмотрев среди гостей ни одного русского, приуныл было, но его тут же подманил к себе пожилой степняк — как оказалось, отцов знакомец Церемпил, — и стал пытать о житье-бытье. Парень словоохотливо поведал: мать с отцом, слава богу, живы-здоровы, укочевали в родовое село Большой Куналей; братья и сестры тоже ничего живут, хлеб жуют, сольцой посыпают; а он — студент университета — прибежал на все лето в родное село — каникулы, подрабатывает монтёром в узле связи.
— На кого ты, паря, учишься? — прищуристо уставился на него Цыремпил.
Елизар замялся, гадая, как попроще растолмачить.
— Да… вроде, на историка.
— Историка?.. Э-э-э… понимай: это, вроде, Галсана — даланы заливать, улигеры…[72] Почо город ходить?! Галсана бы слушал — шибко много историй знает.
Степняки засмеялись, и тут же, легок на помине, сто лет ему жить, подоспел и сам Галсан, папаша Баясхалана-новобранца, мелконький, сухонький, ладный и, как головешка, черный, отчего снежной и чужеродной гляделась на нем белая нейлоновая рубаха, твердым воротом подпирающая коротко стриженный сивый затылок. Галсан дохнул сивухой прямо в Елизарово лицо… можно закусывать… потом шумно и суетливо поздоровался:
— Сайн байна![73]
— Сайн… — эхом отозвался Елизар.
— Ну, как дела, паря?
— Да ничо, паря.
— Ну, тогда ладно, паря, — успокоился Галсан. — Женилхам бырос?.. — он с резким качем хотел было хватануть парня за брючную прореху, но Елизар отпрянул, торопливо заверяя:
— Вырос, вырос! Болё, болё[74].
— Но тогда, паря, совсем ладно. Женить будем… Архи[75] пил — башка хворал, девка любил — совсем башка потерял… Зять! — широко отмахнув рукой, улыбнулся мужикам. — Свадьба играть будем, опять гулять будем, ёкарганэ! — Галсан похлопал парня по плечу. — Ты, Елизархам, однахам, мал-мал по-бурятски толмачишь. Толмачь бы, угы?[76]
— Угы… Малость понимаю… — уклончиво пожал плечами Елизар, но тут же заверил: — Думаю подучить…
— Надо, надо… Бурятам живешь, пошто толмачь угы?! Но, однако, девкам знашь как сказать?
— Зна-аю, — лукаво, по-свойски ухмыльнулся Елизар. — Би шаамда дуртээб.
Галсановы глаза умиленно растаяли среди холмистых щек… буряты испокон веку привечали русских, что по-ихнему толмачили… потом Галсан захохотал и, кое-как успокоившись, снова похлопал Елизара по плечу, растекшись лицом в хитроватой улыбке, подмаргивая и подергивая головой, словно отманивая для секретного словца.
— Но-о, паря, совсем зять. Моя Даримка жена дам.
Хозяин смеха ради, по заведенной издавна привычке, навеличивал парня зятем, но за словами не таился посул; и все же… все же неспроста, не спьяну говорено было про зятя: раньше Дугарнимаевы жили в деревне, по соседству с Калашниковыми, и маленький Елизарка, дружок Баясхалана, не выводился из их дома; вот, кажется, уже тогда припадала Елизарова душа к галсановой девке, щекастой, солноликой Дариме, у которой в берестяном чумашке для тряпичных кукол бренчали игральные кости, — крашеные в два цвета бараньи лодыжки, завернутые в тонкую сыромятную кожу; и уже тогда Галсан, глядя на ребят, играющих лодыжками, дразнил Елизарку зятем и выяснял — вырос ли женилхам, без стеснения хватая парнишку за сатиновые шкеры. Малого смущали вольные выходки игривого Галсана, и он старался ускользнуть из его ухватистых цепких рук.
Потом Дугарнимаевы всем своим гомонящим табором откочевали в степь, в хангал дайду, — благоухающую землю, где подрядились пасти отару овец; и ребятишки ходили в школу прямо с гурта, или Галсан привозил их на коне, по теплу запряженном в телегу, по зиме — в кошевые сани; а когда выстаивались рождественские, крещенские морозы и в степи гуляла варначья метель, ребятишки жили на бурятском краю деревни у своей родни.
В начальную школьную пору Елизар еще пасся подле Даримы, но, коль народилась она двумя годами раньше, то уже в восьмом классе бывший ухажер, пока еще шестиклассник, смотрелся подле нее малым недоросточком. После восьмилетки девушка подалась в педучилище, и вот уже зиму учительствовала в начальной школе, и если раньше Елизар видел ее мельком, на бегу, то нынче летом виделись чаще: сойдутся на дощатом, щербатом тротуаре, Дарима посмотрит с блуждающей на губах, зазывной, ласковой улыбкой, смущенно отведет взгляд, потом снова взглянет, спросит случайное, попутное, но в глазах, пытливых, проникающих, сухо и напористо затаится недосказанное. Елизар учует, случайно перехватив взгляд, и, не смея поднять глаз, торопливо ответит, да на том и разойдутся. Однажды увидел ее под потемки рядом с Бадмой Ромашкой — зашершавела, заныла душа в ревнивой боли, но вскоре отошла, — подвернулась веселая синеглазая деваха Вера Беклемишева, и ревность утонула в кружащем, жарком омуте.
Ознакомительная версия.