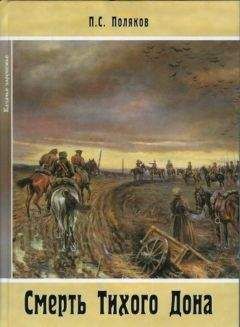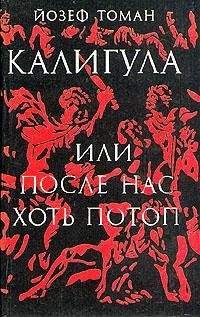И тот, кто прочтет "Беседы об истине" Мигеля, монаха общины Милосердных Братьев в Севилье, поймет: книгу эту писал человек сильного духа, человек, умевший быть только горячим или холодным, но никогда просто теплым.
* * *
Время идет. Год за годом родится, цветет, увядает и гаснет.
Сколько лет прошло после основания Каридад? Пять? Или уже десять? Мигелю за пятьдесят...
Проходят годы, наполненные смиренным служением, вписывая в лицо Мигеля бледность и усталость. И вот снова Страстная пятница, день распятия, день воспоминаний.
От образа к образу, рисующим путь на Голгофу, переходит Мигель, думая о страстях господних, оглядываясь на свою жизнь.
Заслужил ли я уже право на какую-то долю радости и покоя?
- Пойдешь с процессией, брат? - спрашивает Дарио.
- Не могу, - отвечает Мигель. - У нас несколько человек при смерти. Нельзя оставлять их.
- Ты очень осунулся, брат. Очень бледен. Я знаю тебя многие годы, и никогда еще ты не выглядел так плохо. Здоров ли?
- Я здоров. Просто не спал несколько ночей. Вот Дарио заставил Мигеля отдохнуть в пасхальный понедельник.
Мигель не согласился прилечь и вечером вышел из монастыря к реке.
Он шел, не обращая внимания на запахи, звуки и краски. Он утомлен. Он выбился из сил. Сел на берегу. Лунный свет озаряет его лицо.
Шла мимо женщина; увидела его лицо и остановилась.
- Брат Мигель!
Он поднял голову и узнал Солану. Медленно поднялся.
- Я не решалась навестить вас в монастыре. Прошло так много лет с тех пор, как мы виделись в последний раз...
Она улыбнулась при виде его удивления.
- Вы живете вне времени, Мигель. Его волны разбиваются о вас. Я уже десять лет замужем, у меня два сына... Старшего зовут Мигель.
Она подошла ближе.
- Вы похудели, но в остальном не изменились...
Перед Соланой стоял человек, хоть исхудавший чуть не до костей, но окрепший внешне и внутренне, и лицо аскета - прекраснее, чем было лицо распутника.
Так стояли они лицом к лицу. Аромат, исходивший от женщины, достигал его обоняния, в ее бледном лице было великое очарование и великая сила. Как это манит, как кружит голову...
Солана взяла его руку, сжала в мягких, теплых ладонях.
О годы, с течением которых кровь превратилась в свяченую воду, о страх, что вернутся знойные ночи, которые так душат а жгут!
Пылает и жжет рука Соланы. Гладит мою руку нежная ладонь...
Живой огонь прикосновения, трепет в сердце, праздничный миг среди будней!
Рука женщины спряталась под черные кружева - ярка ее белизна под ажурны" орнаментом. Полускрытая, манит она, светится сквозь узорчатую сеть, движения ее свободны, как у крылатого призрака. И опять берет его за руку Солана, и он не отнимает руки.
Губы под мантильей - как цветок в росе.
- Мигель!
В голосе - любовная дрожь.
- Как благодарна я мгновению, что позволило мне поговорить с вами наедине...
- Мы не одни, Солана.
- Ах да, я поняла вас. Но даже если божий гнев сожжет меня, как воск в пламени, если телу и душе моей суждено за это рассыпаться прахом и дымом, я хочу вам сказать...
- Вы хотите сказать мне нечто очень благочестивое, - нетвердым голосом перебивает ее Мигель.
- Нет, нет! - с жаром восклицает Солана. - Я хочу сказать, что все еще люблю вас, Мигель!
Он попытался обратить это в шутку:
- Вот так благочестие!..
Но Солана чувствует, как дрогнула его рука, которую она держит в ладонях.
По вечерней улице ковыляют убогие - голод и боль гонят их к Каридад.
Мигель высвободил свою руку.
Она подняла мантилью с лица, улыбнулась ему полными губами:
- Люблю вас, Мигель.
- Я вас тоже, - тихо ответил он.
- Что? Я не ослышалась?! - возликовала Солана, рванувшись к нему.
- Я люблю вас, сестра. - Слова Мигеля спокойны.
Темнота растекается по улицам города, и женщина не опускает мантильи. Зрачки ее искрятся - и вот она падает ему на грудь и целует...
Но губы Мигеля плотно сжаты, сердце холодно.
- Солана! - с укором сказал он. - Вы забываете...
- Прощай, прощай! - И она убежала с рыданием.
А он еще постоял, не спеша стереть поцелуй с губ, и улыбался спокойно, уверенный в себе, ибо достиг того предела, когда человек владеет телом и душою, когда его дух, несокрушимый и твердый, поднимается над человеческими желаниями.
Мигель вернулся в Каридад.
Изваяния святых в колоннаде монастыря заснули в тех позах, какие придала им рука художника. Но Мигель не преклонил колен перед Распятым, ибо больные ждут его.
* * *
На склоне лета одного из тех годов, что были добровольной каторгой Мигеля, в сентябре месяце, когда дни подобны прозрачным каплям утренней росы, а ночи светятся, как влажные глаза, - в монастырский колодец упала овца по имени Чика и утонула.
Монахи окружили колодец и, попеременно наклоняясь над черным глубоким цилиндром, беспомощно разводят руками.
- Ах, моя милая овечка! - причитает брат Дарио. - Утонула, бедняжка, а была такая беленькая и кудрявая, как облачко...
- Глаза у нее были словно из прозрачной смолы, такая ласковая была и милая... - подхватывает брат Иордан.
- Вытащите ее! Надо же похоронить бедненькую! - просит Дарио.
- Глубина колодца семьдесят локтей - спуститься невозможно...
Стояли монахи кружком, и глаза их были полны жалости; но вот колокол призвал их к молитве.
Вечером вышли посидеть в саду Иордан, Гарсиа и Дарио, в завязался меж ними один из ученых диспутов о сущности бога. Мигель, усталый, лежал возле на траве, глядя на верхушки померанцевых деревьев и слушая спор.
Неподалеку, не зная ничего об утонувшей овце, брали в колодце воду монахи, чья очередь была работать, и носили в больницу.
Брат Гарсиа молвил восторженно:
- Беспредельным одиночеством окружен бог, и великая тишина вокруг него...
- Нет! - с жаром перебил его Дарио. - Бога окружают сонмы ангелов. Райское пение раздается вокруг престола его...
- А я говорю - великая, леденящая тишина царит там, где пребывает бог, - повторяет Гарсиа.
- Он - всюду. Он - во мне, в тебе, Дарио, и в тебе, Гарсиа, и в той розе, и в пчеле, вьющейся над нею...
- Безбожные речи! - восклицает Дарио.
- Может быть, он даже в мертвой овце? - раскидывает ловушку Гарсиа.
- И в мертвой овце, и в ее костях...
Дарио резко отмахнулся:
- Ты говоришь, как еретик, брат Иордан!
- Разве ты не любил эту овцу? - спрашивает тот.
- Ну, любил, - допускает Дарио.
- И не отложилось ли в ее глазах немного от этой любви?
- Ты куда гнешь? - вскидывается Гарсиа.
- Во всем есть нечто от бога - во всем сущем. Частица бога, который один, но имеет сотни тысяч обликов и ипостасей, - есть в любом камне, в любой травинке, в каждой душе...
- Ты хочешь сказать, что у овцы есть душа? - возмущен Дарио.
- А ты в этом сомневаешься? Именно ты, чьему слову послушна была Чика и ложилась у ног твоих, глядя тебе в глаза?
- Как можете вы так говорить о самом важном? - вскипел Гарсиа. По-вашему, бог - какой-то "везде поспел", который ходит от деревни к деревне, и везде звучит его глас... Бог - на небе, и вовсе не растет он в каждом стебле, разве что приказывает стеблю расти - сам же пребывает в несказанном одиночестве, недвижный, сияющий, молчаливый...
- А ты как думаешь, Мигель? - обращается к нему Дарио.
- Правда, - улыбнулся Иордан, - скажи, отец настоятель, как смотришь ты на этот вопрос?
- Я? Я думаю, братья... Нет, впрочем, не знаю, а что до овцы... рассеянно пробормотал Мигель, потирая лоб, и тут он заметил, как монах берет из колодца воду, вскочил и, взволнованно взмахнув руками, быстро проговорил: - О братья, поверьте, вопрос об овце и есть самый важный... Мы забыли о ней, а падаль отравляет воду... Вы спрашиваете меня о боге, а я говорю об овце... Подумайте, ведь воду все время берут и носят больным! Брат Иордан, запрети брать воду из этого колодца. Надо посылать к другому источнику...
И Мигель сорвался с места, крикнув на бегу:
- Пойду скажу, чтоб не давали эту воду больным!
- Безумец, - удивленно произнес Дарио, гляди ему вслед.
Но Иордан молвил в наступившей тишине:
- Говорю вам - этот безумец ближе к истине, чем все мы!
* * *
Как меняются времена! Как меняются люди!
Прежде чем отдать себя целиком служению человеку, Мигель по многу раз в день вопрошал свою совесть, перебирал все свои, даже самые незначительные, слова, размышляя о том, отвечают ли они его страстному стремлению примириться с богом.
О, человек! Что ни мозг, ни сердце, ни чувство - то вечное стремление...
По мере того как граф Маньяра преображался в брата Мигеля, а из брата Мигеля - в служителя больных, преображалась и неистовая жажда его пламенного сердца.
Ныне Мигель уже не терзается вопросом - порадует или заденет бога то или иное слово. К огорчению братии и сановников церкви, он даже недостаточно внимателен к предписанным молитвам и святым размышлениям.
- Он отдаляется от господа, - с болью и гневом говорят о нем Милосердные Братья.