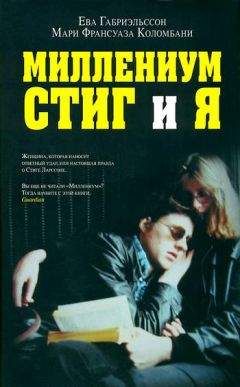и не было особенно интересно то, что происходит между нами, вся эта история со львом. Даже ваш смазливый подручный Бой Ларю на этот раз ослушался вас – я недавно видел, как он трахается с этой англичанкой там наверху, на скалах. И теперь вам так страшно, что и я уйду от вас, что вы пытаетесь удержать меня, сделав таким же больным, заразив меня вашей жуткой болезнью. Конечно, вы и до этого были одиноки, но теперь вы замечаете, что тут совсем другая история, ведь раньше у вас был неограниченный доступ к людям, раньше вы всегда знали, что можете проснуться от своего отравленного сна, вернуться к нормальному существованию, в котором одиночества ровно столько, сколько вам нужно, чтобы окончательно прийти в себя. Но здесь вы боитесь снова нырнуть в это ваше бездонное одиночество, потому что не уверены, что найдете, когда вынырнете из него. И тогда вы можете столкнуться с таким одиночеством, которое вам и не снилось, и вы пытаетесь защититься от него и забрать меня с собой, но у вас ничего не получится, потому что вы пали духом и не решаетесь посмотреть мне в глаза, ибо я говорю правду. Осторожней, я ведь тоже заразен, у меня тоже есть заболевание, но я не хочу заразить вас, потому что вы все равно не знаете, что с ним делать, потому что вы все равно решите, что это еще один вид наслаждения, как и все болезни, с которыми вы сталкивались до сих пор.
– И что же это за болезнь? – глухо спрашивает капитан, пряча лицо.
– Это заболевание называется «чувство вины», – говорит Лука Эгмон, – с ним тоже можно играть, при желании его тоже можно превратить в наслаждение, оно тоже может вознести вас на доселе неведанные высоты блаженства. В любом случае, скажу вам, это ужасно – просыпаться с раскалывающейся головой, хотя накануне ничего не было, резко просыпаться и чувствовать, что сил встать с постели не будет ни в этот день, ни на этой неделе, ни в этом году или в этой жизни, понимаете, просто сил нет и не будет, потому что затылок наливается свинцом чувства вины всего мира и каждая попытка встать приводит лишь к очередному падению и серьезным ушибам, а этого ведь никому не хочется. Ну что ж, несколько дней лежишь в постели, потом в комнату заходит какой-то человек и заявляет, что ты вовсе не болен, а просто тебя одолела лень. Займитесь, что ли, чарльстоном, говорит он, это идеально для суставов. А ты, разумеется, хочешь сделать что-то идеальное и для суставов, да и вообще для всего и всех, но очень быстро замечаешь, что идеальное очень далеко от твоего идеала. Да и вообще, быть идеальным означает просто закрывать глаза на мировое чувство вины, танцевать в левой половине бальной залы, когда на правой гремят взрывы и льется кровь. Конечно, со временем можно натренироваться: я вот, как вы видите, научился сохранять вертикальное положение, хотя сначала, признаюсь, было нелегко, пока все эти советчики и консультанты толпились вокруг, высказывали свое ценное мнение, раздавали рекомендации и советовали не брать на себя слишком много. Говорили, что по полям да по лесам лучше бродить с рюкзаком. Естественно, приходилось быть благодарным за помощь, но она не решала самой большой проблемы, какая только есть в мире: что людей, готовых объединиться и взять на себя мировую вину, так мало, что так мало тех, у кого еще осталась совесть, и на плечи этих немногих ложится тяжелейшее бремя. Понимаете, мировая вина совсем не похожа на мировое одиночество, ведь вас, готовых взять на себя мировое одиночество, так много, поэтому каждому достается посильная ноша, а то и поменьше, а чувство вины… оно просто пригибает к земле.
– А за что вы испытывали такое чувство вины? Что вы такого сделали? В каком преступлении вы повинны?
– Вот в этом-то и состоит парадокс, понимаете. Я ничего не сделал. То есть должен был сделать – но не сделал. Я был совершенно невиновен – но все равно чувствовал себя виноватым. Мне казалось, что все это случилось из-за меня, что из-за меня в тех трущобах, где жили мои родители с тех пор, как я переехал в комнатушку неподалеку от банка, у каждого второго ребенка была чахотка, что из-за меня так много стариков умирало в нищете в городских ночлежках, – меня пронзало болью каждый раз, когда я видел на улице попрошайку или бедняка с изъеденным оспой лицом. Разумеется, я пытался помогать им насколько мог, чтобы избавиться от этого чувства вины; я стал членом всех возможных общественных организаций, чтобы сделать хоть что-то для тех, кому тяжелее всего, но раз за разом я понимал, что этого недостаточно, причем иногда – преступно недостаточно. Меня тошнило от онанистской самодостаточности благотворительных фондов, после каждого сбора средств они будто бы любовались своим отражением в зеркале и проверяли, не появилась ли вокруг губ складка милосердия. Политические партии слишком много занимались вопросами далеко не первой важности, заявляли, что хотят изменить общество, освободить мир от несправедливости, которая с такой силой давила мне на затылок изнутри, говорили, что будут принимать долгосрочные меры, но это было лишь циничное описание постоянной прокрастинации, вот и всё. Время от времени кто-то заговаривал о проблемах беднейших слоев общества в пропагандистских речах, и больше всего меня отталкивало то, что нужда и нищета использовались для рекламы политических партий, что такая естественная вещь, как снижение количества больных туберкулезом детей, становилась популярным пунктом программы партии, все остальные действия которой вызывали в лучшем случае недоверие, а в худшем – презрение. Нет, для нас, одержимых чувством вины, не существовало ни одной организации, потому что нищими и убогими занимались только те, кто уже давно не чувствовал никакой вины, если они вообще знали, что это такое; занимались, погрузившись в иллюзию, в которой они так много делают для того, чтобы облегчить страдания человечества. А самое ужасное, на мой взгляд, было то, что все постоянно обсуждали какие-то идеи, и на это уходило так много столь нужных сил; лично мне кажется, что идеи – это детский сад, идеи нужны для того, чтобы играть с ними, идеи – это красивые игрушки взрослых людей, попытка померяться силой со сторонником другой идеи изначально обречена на провал. Вместо того чтобы собраться за одним столом, где, по слухам, решались судьбы человечества, и выложить на него свои безжалостные, садистски последовательные идеи, надо было встречаться на теннисном корте и играть на идеи,