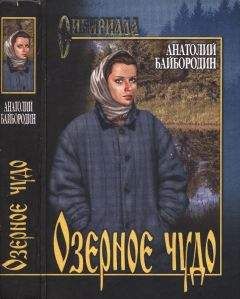Ознакомительная версия.
Вместе со старой заимкой Яравна, что через три века взошла на землях Яравнинского казачьего острога, доживал свой век и дед Хап, вздумавший порыбачить в ту октябрьскую пору, когда не то что на удочку, айв сети-то отродясь ничего не ловили — вода холоднела, и рыба, лишь тихими, теплыми вечерами играя у берегов, днями пряталась в неведомых, пучинных ямах.
Накануне томило и маяло заимку долгое непогожье; ветер-листодер рвал с берез и осин остатние жухлые листья и сыпал их на избы или нес прямо в бурлящее и бесновато ревущее озеро; ветер-верховик с гулом и свистом закручивался среди отмаши-стых лиственничных крыльев, и дерева скорбно гудели в ночи, раскачиваясь вершинами в самом поднебесье, взбалтывая и роняя наземь дрожащие звезды, точно тронутые морозом ягоды рябины. Озноб пробегал по сердцевинам листвяков, отдаваясь в натруженных корнях, которые, чудилось, всякий раз после порыва ветра подергивались, тужились и утробно хрипели в земле. Вместе с листвяками, взросшие на их корнях, постанывали в лад осадистые избы, покачивались, плыли в темени, словно рыбачьи лодьи на морских волнах.
Но, ушомкавшись за день на осенней неводной рыбалке, спали беспробудно мужики; шепотливо молились в теми старухи, испрашивая у Спаса и Царицы Небесной, у святого Николы милости и прощения за свои пригрешения и грехи домочадцев, и чтоб унялся ветер-ветрище; закатывались в сипящем кашле протабаченные и почти всегда остуженные, пожилые рыбаки, при этом кряхтели и морщились от ломотья и нытья в костях; просыпались от свиста и воя над крышами малые ребятёшки, испуганно и затяжно обмирали, скрадывая скрипы и стоны изб, воображая лукавых оборотней, просящихся в избяное тепло, но, объятые печным жаром, особенно желанным и ласковым в такую ветрину и стужу, слыша рядом посапывание и похрапывание старших, опять засыпали, и даже сквозь мокрую мглу, сквозь одичалый ветер спускались к ним с неба цветастые, солноликие, по-озерному сизоватые, летние видения.
В это непогожье яравнинские мужики и бабы решили, что дед Хап не переживет осень, он и сам про то говорил с виноватой улыбкой; но в середине октября вдруг потеплело, тихо и невинно заголубели озерные дали, проветренные за ночь, и дед, уже почти лежавший под образами, неожиданно одыбал, встал на ноги и даже выгребся на рыбалку, хотя сроду никто о такую пору не удил.
* * *Его бы, ясно море, не отпустили, тем более одного, но все домашние кроме семнадцатилетнего правнука Кольши, оставленного доглядывать за стариком, ушли докапывать картошку на дальнее поле, а Кольше — тому хоть трава расти.
Вначале дед Хап выполз на берег и, сидя на перевернутой, полусгнившей лодке, долго смотрел на озеро, пустое, сероватое, будто засыпающее. Смотрел, как его внучка Матрена — уже давно баба в добрых летах, живущая своим домом, — полоскала белье с широких дощатых мостков и поругивалась со своим бесштанным парнишонкой, кышкая его от воды, куда малый настырно лез.
— Тебе отец чо говорил: ежли утонешь, то лучше домой не приходи…
Малый, подставляя голую заднюшку нежаркому солнцу, сопя и кряхтя, подбирал у самой воды отпахнутые, набитые песком и зеленоватой тиной, скользкие ракушки и, хитровато косясь на мать, поджидал, когда та перестанет за ним приглядывать, чтобы тут же искупаться.
Видел старик, как забредали в озеро парень с девкой, до того неприметно сидевшие, а может, лежавшие на сухой траве в затишке под глинистым яром. Приставив ладонь к козырьку сплющенной блином, линялой фураги, вглядевшись, признал в парне своего правнука Кольшу, рыбака из тутошней неводной бригады; его этим воскресным днем и высвободили от картошки, чтобы приглядывал за домом и стариком, но тот давно уж забыл отцовы наказы, потому что забредала с ним в воду ухажерка Тоська, дочь одинокой непутевой бабы, неведомо откуда и прикочевавшей на заимку.
Зябко передергивая толстыми плечами, сутулясь, чтобы утаить прущее, как тесто из квашни, обильное тело, смущенно обтягивая вокруг набрякших колен белую исподницу[110], шла Тоська мелкими шажками, боязливо прощупывая ступнями тинистое дно. Но вот она, похоже, ступила на песочек, пошла ровнее, шире, и, когда мягкая грудь ее заколыхалась на воде, охнула, присела словно курица-наседка, но тут же с визгом выметнулась из воды и, отфыркавшись, поплыла вдоль берега; исподница сбилась на спину, надулась пузырем, оголив не по летам бабьи, незагорелые ноги. Кольша — плечистый, прокопченный и провяленный на озерных ветрах — стоял по колено в воде, почесывая тощее брюхо, поддергивая спадающие черные трусы, при этом зарясь шалыми цыганскими глазами на Тоську. Проплыв немного, по-собачьи гребя воду под себя, запыхавшись, Тоська встала на ноги, убрала с лица налипшие волосы и, поигрывая плечами, а потом и лукавыми, синими глазами, стала дразнить ухажера. Да еще и отголосила на все озеро:
Дорогой мой зацелуйник,
Не целуй больше меня,
Мои губы пораспухли
От целуйника тебя!..
Пока дева плескалась, пока оглядывала озерную благость и хребет, дотлевающий рябиновым, боярковым, желтым, малиновым цветом, подкрался Кольша, нырнул издалека и, вылетев пробкой из воды, ухватив Тоську своими клещнястыми лапами, повалил в озеро, будто в зеленое, еще не просохшее сено. Тоська оглашенно завизжала, забилась в тискающих Кольшиных руках, колошматя толстыми ногами по воде, словно белорыбица могучим хвостом, — вроде испужалась, вроде сам водовик[111] потянул ее в придонные травы; потом в утеху себе, не умея иначе выразить довольство, со всей моченьки замолотила по Николиной спине, но тут же и прилипла к парню, обхватив за шею и, похоже, даже обвив ногами.
Кольша привычно намекнул на щедрые Тоськины телеса:
— Тоська!.. Ты как в воду-то забралась, дак ить озеро вышло из берегов. Как ишо заимку не затопило…
— Дурак… — она опять шлепнула ухажера по спине и, придержав ладонь, протяжно и нежно погладила. — Эх, Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй…
* * *Возле деда тем часом, поставив на песок таз с выполосканным бельем, присела Матрена, сухонькая, чернявая, в обвисшем линялом платье.
— Стой здесь, шемела! — наказала она своему голоштанному парнишонке, который рвался к озеру. — Стой, кому говорю! Еще сунешься к озеру, жопу надеру… — она сладила сердитое лицо, погрозила парнишонке пальцем и тут же пожаловалась старику. — Два раза его, идола, из воды вынала.
— Чао? — дед Хап напрягся, вслушиваясь, и даже приставил возле уха ладонь. — Ты, мнуча, шибче реви, я ить на дно ухо совсем босой, ни холеры не слышу.
— Говорю, в воду лезет, паразит! — гаркнула Матрена, тыкая пальцем на парнишку. — Утонет вот…
— А-а-а… Но, видно, рыбачо-ок растет.
— Да уж верно, что рыбачок — так, фулиган, и рвется в озеро. Силком не оттащишь.
— Присматривай, деука, присматривай, а то парнишонка-то у тя вольный, того гляди и… Манит озеро, ой, манит. У меня ить тоже был…чуть поболе годами, — утонул, деука, утонул. На ночь глядя полез купаться, да и… Дак и сыскать не могли. Царство ему Небесно, — старик двуперстно перекрестился. — Може, и выпь уперла.
— Какая еще такая выпь? — поморщившись, досадливо скосилась на него Матрена.
— А? — дед опять склонился к ней, приладив к уху ладонь.
— Какая еще выпь? — досадливо крикнула Матрена. — Сроду про такую не слыхала. Выдумывашь кого-то…
— Выпь-то?.. Выпь — это, деука, сказать, озерный бык. Он при солнушке не кажется. Разве что в потемки на бережок выбредат… Водянушко, он и есть водянушко — нежить, одно слово. Так и скрадыват, кто купатся впотьмах, — кого бы уташшить. Ночной уповод…
— Буровишь ты, дед, кого попало. Ребятешёк пугашь. Видом не видывали, слыхом не слыхивали про твою выпь.
— Другорядь, это, придешь сюда под потемки, кто-то вроде плачет, зовет — ой, окстишься да ударишься в гору, себя не помнишь. То ли дева водяная манит, то ли выпь зовет…
* * *
А молодые, утешно бранясь, пересмеиваясь, забрели аж по самое горло и подтаяли в озерном мираже; Тоська плавала важной утицей, а Кольша то кружил возле девы, то опять, чисто селезень, накидывался, лип, и раскатывался до самых хребтов захлебистый, визгливый Тоськин смех.
— Ишь, разыгрались, ничо, холеры, не боятся, — укоризненно покачала головой Матрена. — Другого-то уж места не нашли, в озеро, срамцы, залезли — гляди, заимка, дивуйся.
Дед догадался, о чем речь, и, ухмыльнувшись в бороду, сказал поперек:
— В озере-то, милая, самая игра. Пусть потешатся, пока дается. Ребетёнки-то посыпят, некогда будет играть.
— Зажил народ, не наша беда… — глаза увядающей женки на минуту притуманились в зависти, словно вечерние окошки в осени, хотя она тут же и усмирила, отогнала непрошеное, неуютное чувство и уже без горечи договорила: — А нам одна война досталась, пропади она пропадом… Так эту рыбу и фуговали, из мокра не вылазили. Не рыба, дак живьем бы передохли…
Ознакомительная версия.