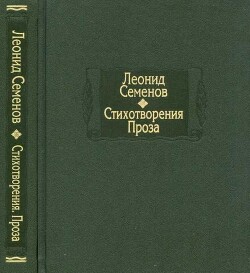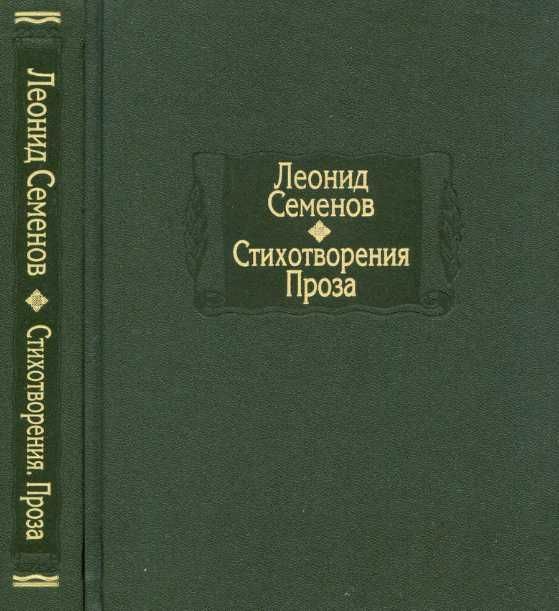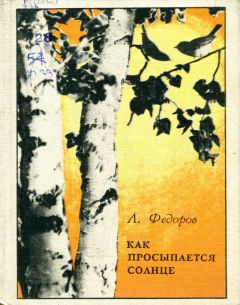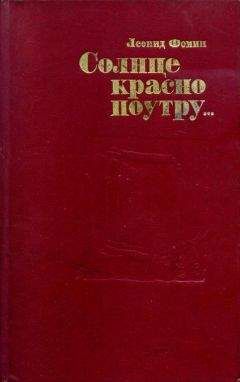Толя. Оставь, Таточка… Не надо, а то мы опять будем бояться. Теперь не надо плакать и бояться.
Тата. Зачем мне его целовать? Я не хочу его целовать. А они понесли меня — я кричала — и они давали мне нюхать что-то, такое противное. Я не хотела и звала маму, потому что я знала, что это не мама. Папа не даст маме умереть. Зачем они говорят такие глупости, что это мама? У мамы красивые волосы — а этот совсем без волос, я видела. Мне страшно, Толя, я не буду больше спать. Я не хочу, я больше не пойду туда. Ты не уходи, Толя, будь со мной.
Толя. Таточка, теперь не плачь, теперь больше не надо плакать! Его увезли. Я сам видел. Были и лошади в черном.
Тата. Зачем они говорят такие глупости, что это мама?
Толя. Они злые, они хотели нас напугать. Мне сказала мисс Эми. Они думали, что мы маленькие, глупенькие и поверим!
Тата. Им должно быть стыдно, большим пугать маленьких. Мы ведь все-таки еще очень маленькие, Толя, и нам страшно без папы и мамы, мы не можем быть одни. Где мама и папа? Толя, где?
Толя. Тата, подожди, ты теперь не бойся и слушай. Я тебе скажу. Это будет наша тайна.
Тата. Я слушаю, Толя, только я все-таки боюсь.
Толя. Ты не должна бояться. Теперь нельзя плакать. Мы должны молчать, а то все узнают.
Тата. Ну хорошо, Толечка, хорошо. Только ты говори скорей. Мне страшно.
Толя. Я тебе скажу, я знаю — я слышал, раз мама в столовой говорила дяде Поль. Тогда у тебя болело горло и ты лежала, а мама говорила с дядей Поль по-французски и плакала.
Тата. А мы все понимаем, когда мама говорит по-французски. Я, Толя, всё всегда понимаю.
Толя. И я все понимаю. Мама хотела уехать, но маме было жаль нас. А дядя Поль был сердитый, он все ходил и молчал. Я боялся дядю Поль.
Тата. Дядя Поль не любит, когда мама говорит про нас.
Толя. Он думает, что мы ему мешаем.
Тата. А он хочет, чтобы мы говорили про него маме. Он тогда нас любит.
Толя. Он тоже был там у мертвеца. Он смешной. Он сидел один в углу; он был только совсем другой. У него длинные ноги и был виден белый носок. Я хотел ему сказать, что так неприлично и что так будут смеяться, — только я боялся, там все чужие. А мне было его жаль. У него на носу были слезы.
Тата. Он плачет оттого, что уехала мама. Он ее никогда не увидит — всем скучно без мамы. А я не хочу, Толечка, жить тут, тут духи и мертвецы, потому и мама уехала — мама не любит духов и мертвецов.
Толя. Подожди, Таточка, я тебе скажу нашу тайну, ты все узнаешь, это большой секрет, ты наклонись — я тебе скажу на ухо.
Тата (наклоняясь). Ну?
Толя (шепчет ей на ухо). Мы вырастем, Тата, большие, и тогда непременно найдем маму и папу, и тогда будем жить во дворце на острове, и тогда уж папа и мама никуда не уедут.
Тата. Ах, Толя, я уж думала. Я хочу большой, большой дворец и большой зал, чтобы у нас были всегда гости и танцы. Я буду, как мама, и буду всегда носить белое платье и белые перчатки, а маме подарю золотое. — Ах, Толя, помнишь…
Толя. У меня будут усы — и у нас будет своя лодка.
Тата. Вот, Толя, ты слушай, ты помнишь? Раз мама надела белое платье. Тогда она ехала на бал, и тогда все уж, все говорили, что такой красивой, как мама, нет — это было в городе.
Толя. Тогда папа надел фрак.
Тата. У нас мама очень красивая, я всегда рада, когда про нее так говорят чужие — все так говорят.
Толя. Я тоже помню, мама вошла тогда к папе, а мы были уж в кровати, раздетые, и мы думали, что это не мама, а королева.
Тата. И няня Фекла сказала, что это не мама, а настоящая королева. Вот будет хорошо, Толя, когда мы все будем там жить — мы и мисс Эми позволим.
Толя. Мы скажем папе, что она чужая, но она добрая, она не хочет, чтобы над нами смеялись.
Тата. А про дядю Поль мы скажем папе, что он тоже любит маму, как и папа. Он тоже добрый. Тогда все будут добрые. Ах, Толечка, это нужно скорее. Я хочу.
Толя. Только ты, Тата, это никому не говори, это наша тайна. Ты помнишь, как папа говорил про тайну. Я теперь все понял.
Тата. А у меня, Толя, тоже есть секрет — я тебе скажу, я давно хотела тебе сказать, я только все боялась. Я не знала, что ты такой (шепчет ему на ухо). Ты, Толя, умный и я тебя люблю. Я хочу тебя поцеловать.
Толя. И я тебя люблю, Таточка, мы теперь никогда не будем ссориться. Правда, Тата?
Тата. Да, Толя, мы скоро вырастем и тогда женимся.
Толя. И будем, как папа и мама.
Тата. У нас папа и мама хорошие. Никто ничего не смеет про них говорить.
Занавес
ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ
Есть только одна трагедия — мировая. Мы не знаем ни ее начала, ни ее конца, но мы все — ее невольные участники и жертвы.
С полным правом мы можем сказать про нее, что она в нас и мы в ней.
Ведь все мы — от Эдипа и до последнего современного человека — страдаем и страдали, а раз есть страдание, то, значит, есть какой-то конфликт, и должно быть его разрешение.
Дело, конечно, не в словах. Назовем ли мы этот конфликт борьбой добра и зла, или двух начал — материи и духа, или еще как-нибудь иначе, дело от этого не изменится. Есть борьба, есть страдание, а, следовательно, должно быть и будет когда-нибудь искупление. Его мы ждем.
Его мы ищем в религии, когда приступаем к ее искупительным жертвам и таинствам, о нем гадаем в науке и в искусстве, когда созидаем и созерцаем полные ужаса и смерти наши человеческие трагедии.
Да. Трагедия есть.
Сухо, но зато, может быть, ясно говорит о ней философия. Она говорит о коренном непримиримом противоречии нашего бытия и сознания и определяет его так: человек сознает себя свободным и в то же время — всецело во власти внешней необходимости. Назовите последнюю Роком или эллинским словом Мойра[153] — и вы получите основную идею древней трагедии, т. е. все той же всемирной трагедии, но так, как она открывалась сознанию греков.
В величавых, почти до схематичности простых образах и символах выражена она Софоклом в его Эдипе.
Эдип в Колоне[154]. Он, кровосмеситель и убийца собственного отца, невольный преступник, уже беспощадным самосудом вырвал себе глаза и
претерпел такие муки в жизни,
Каких никто из смертных не терпел.
Нищий после царской пышности, всеми гонимый и презираемый дряхлый старик, он пришел наконец к священному месту, заповедной роще дев Эвменид[155], где должен совершиться последний приговор судьбы, исход его трагедии, и тут — сам не смеющий подать руки своему другу Тезею[156], чтобы “не осквернить чистого своим прикосновением” — перед хором, полным ужаса и омерзения к его преступлению и перед лицом грозных дев Эвменид, на пороге Аида[157], он вдруг встает перед нами, как светлый бог в гордых вызывающих словах:
Убил — отрекаться не буду: но разве я знал,
Что творю? Я перед богом невинен!
и далее:
Сам я чист.
За что же ты порочишь
Невинного, коль боги предрекли
В те дни, как я еще и не рождался,
Что сын убьет отца.
Вот она — вечная антитеза: свободен и несвободен, невинен и виновен, два мира, две правды, а посреди них — бездна отчаяния, ужаса и омерзения — и все в потрясающих, до наивности ясных, чтобы и дети слышали, образах!
Скажут про древнюю повесть о царе Эдипе: она — сказка, миф, в завязке ее лежит невероятный случай.
Но что же тогда не сказка и не миф? Жизнь?