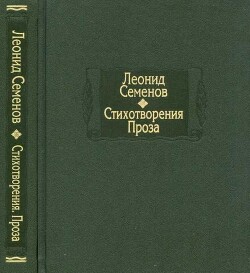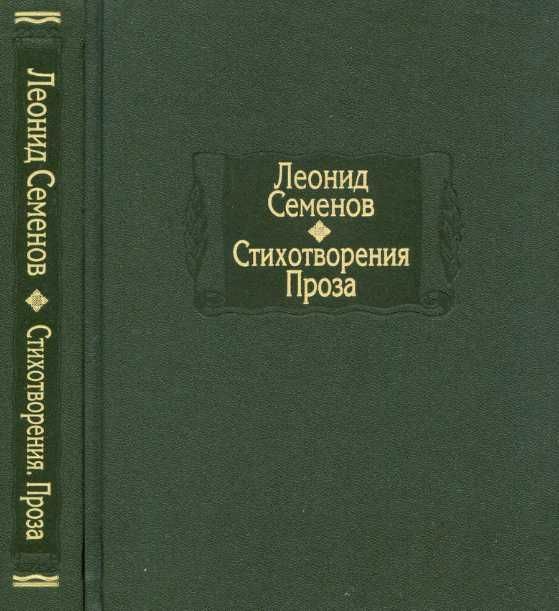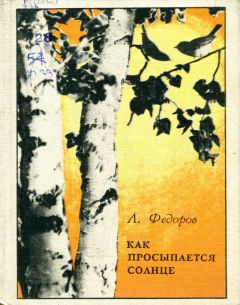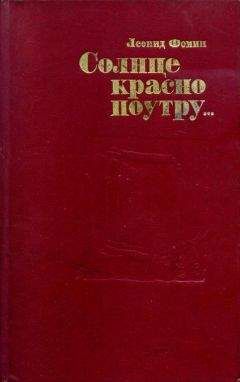Правда, он не принес им лучших слов, чем те, которые мы слышали у Софокла, но зато он принес им священнодействие. Это действие — те самые трагедии, которые свершались в его честь и которые дошли до нас.
В чем их тайна?
Мы подходим к коренному вопросу о трагедии, который так наивно звучит у Шиллера: почему нам нравится трагичное[165]?
На самом деле, почему?
Трагедия Софокла, поставленная теперь на Александрийской сцене, в этом смысле очень поучительна. Ни нервных потрясений, ни слез, ни жалости, ничего “слишком человеческого” — того, чем так обильно растравляют нас современные пьесы, — в ней нет. Одно великое созерцание — и в результате полная примиренность. Это таинство Диониса, и это не слова, а поразительнейший факт.
Как верующие во Христа причащаются Его Телу и Крови, принесенных за них Им в жертву, — и испытывают вместе с Ним радость Его подвига и искупления, так эллины и все те, кто, как они, еще не дождались своего Искупителя, причащаются в литургиях в честь бога Диониса — его духу — и находят в этом свое воскресенье. Это еще не радость христианского искупления. Ее еще нет у Диониса — если бы и она была, у него было бы уже все; но это — радость творчества, радость безграничной свободы духа — та радость, про которую и христианнейший из наших писателей — Гоголь в своих покаянных излияниях сказал: до сих пор я уверен, что нет высшего наслаждения, чем наслаждение творить[166].
Эта радость состоит в том, что, созерцая трагедию, мы, чтобы постигнуть ее, должны творчески воспроизвести ее в себе, т. е. приобщиться к тому единому и вечному творчеству, которое было и в художнике и которое одно, как первопричина, творит свободно все: и свои страдания, и свои радости.
Но творчество и любовь одно, а свободные страдания — уже не страдания.
Таким образом, становясь через зрелище трагедии творцами Эдиповых и своих собственных мук, мы начинаем любить их, как мать любит свое детище, и смотреть на них, по выражению Исайи, “с довольством”[167]. Это и есть та свобода, которой так не хватает нам в повседневной жизни и в неисполнимости которой вся наша и Эдипова трагедия.
Таково таинство Дионисовой религии; оно не умирало и не умрет в нас, и о нем говорят все народы.
Толстой, столь далекий от всякого мистицизма и позволяющий себе наивно смеяться над таинством Евхаристии[168], неуклюже толкует про способ познания мира любовью.
“Этот способ[169], — говорит он, — есть то, что называется поэтическим даром, это же есть любовь. Это есть восстановление нарушенного как будто единения между существами. Выходишь из себя и входишь в другого. И можешь войти во все. Все — слиться с Богом, во всем”.
Всего — еще, конечно, у Диониса нет. Мы далеки от утверждения, что мы и теперь можем через него почувствовать себя непосредственными творцами своих серых мук, которыми так полно наше существование. Но если этого в нем нет, то в нем уже есть великое подтверждение для нас нашей свободы и великое обетование на будущее. Вот откуда и в истории тот изумительный факт, что если когда народ гордился своей свободой, то гордился именно искусством, и вокруг художников всегда видел почти божеский ореол. Они приобщены богу Дионису.
Но и это не все. Дионис, оправдывая в наших глазах наше страдание, еще далек от того, чтобы оправдать перед нами чужие страдания, те “слезы младенцев”, о которых говорит Достоевский. А этих младенцев много, их гораздо больше, чем думает Иван Карамазов; к ним должны мы причислить и не одних людей, но даже и некрасовскую лошадь[170] и всякую тварь, которой недоступны и потому не нужны таинства Диониса, но у которых все же есть, — ведь это мы знаем, — свой плач и свое рыдание. Как искупить их?
Снова открывается нам, как необходимость, все та же идея о Боге-искупителе.
Сказанного достаточно, чтобы оправдать постановку трагедии “Эдип в Колоне” на современной сцене.
Принято говорить об “условности” классических пьес. Дело, конечно, в понимании этого слова. Если видеть их условность в том, что они далеки от нашей современной жизни, от нашего быта и нашей обстановки, то они, конечно, условны. Но мы условность видим как раз в обратном, т. е. именно в том, что само по себе случайно и потому скоропреходяще, как, например, быт, тип, нравы и все то, чему преимущественно служат пьесы обычного репертуара и чего как раз уже больше нет (для нас) в древних трагедиях, так как они пережили века. Трагедия Софокла за 23—24 века, которые протекли над ней, не только ничего не потеряла в своей силе и свежести, но, наоборот, выиграла. Пресловутая “пыль веков” как бы оттянула долу и похоронила под собой все то, что было в ней условного преходящего, как, например, прославление Афин, игравшее у современных ей греков большую роль и мешавшее ее полному пониманию. Теперь трагедия очистилась в своем вечном смысле. Но согласно с этим и мы при постановке ее на нашей сцене должны остерегаться вносить в нее что-нибудь слишком “наше”, т. е. тоже временное и случайное.
В этом вся задача режиссера и артистов, и многое в этом смысле уже сделано Александрийской сценой но, конечно, еще оставляет желать лучшего. Во-первых — исполнители. С их стороны мы желали бы видеть большую приподнятость тона, больше пафоса, размеренности речи и движений и большие паузы между репликами. Диалог Софокла не наш гостиный разговор, где можно перебивать друг друга и недоговаривать слова. Совершенно неуместны поэтому в нем почти истерические рыдания Исмены, напомнившие нам чеховских героинь и их нытье; следовало бы заменить его чем-нибудь в роде ритуальных причитаний. Зато г. Ге[171] — в роли самого Эдипа — очень хорош; артист показал, чего можно достичь личным творчеством, отказавшись от копирования “действительности”.
Прекрасны и глубоко задуманы живые картины во время литургических песен хора; они должны иметь именно такой характер как бы застывшего, но каждый раз символичного по своему содержанию, видения.
Декорация очень красива по тонам и пятнам (темные кипарисы) и поэтична по замыслу, но она показалась нам чересчур сложной. Она слишком много говорит о высоте современной техники и о самостоятельности таланта г. Бакста[172], чтобы быть только фоном и ареной трагедии, в чем ее задача.
Всего менее удовлетворил нас литургический хор. Разделение хоровых партий, о котором говорится в программах спектакля, по нашему мнению, и остроумно и вполне согласно с духом греческой трагедии, но для того, чтобы литургическая, т. е. главнейшая, часть хора была действительным богослужением, как ей это подобает, или давала бы по крайней мере художественную иллюзию священно-действия, для этого следует поручать ее лучшим силам труппы. Нужно окончательно вырвать ее из обычных условий нашей сцены и дать для этого исполнителям ее, вместо грубого грима с привязанными бородами, настоящую древнегреческую трагическую маску. Она бы уже одним своим видом говорила нам о жреческом значении этого хора, являясь его священным облачением.
Пение хора на современную музыку мы считаем попыткой рискованной, разве если найдется композитор, который сумеет положить в свое творчество новые начала, не лирику и не действие (как у Вагнера)[173], а созерцание. Музыка же г-жи Овербек и недурна, и местами очень уместна.
Совершенно не хватало хору движений, символики порывов, вакхизма[174]. Но это уже творчество, которое со времени эллинов у нас окончательно иссякло, и мы сейчас не видим путей к его возрождению.
И все-таки, несмотря на сказанное, Александрийской сценой достигнуто сравнительно уже очень многое — едва ли не превзойдено все, что до сих пор было сделано в этом отношении сценой западной. Это истинный путь к Дионису, или, вернее, расчищение путей ему. Остается в заключение пожелать дальнейших и еще больших успехов благородным усилиям.
VAE VICTIS![175]