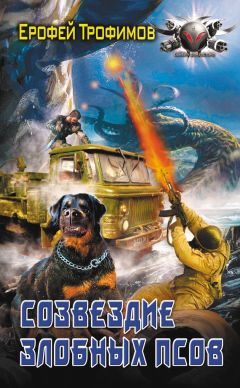завел дружбу с рестораторами, с торговками, поившими его молоком, с папиросниками. Это были люди, с которыми должен был встретиться каждый, кто живет в Керчи. Он выдумал новую трогательную историю о пропавшей жене. Он передавал им приметы Нелидовой, говорил о легкой походке, темных глазах, низком голосе, серебряном браслете на руке и всячески подстегивал их память, медлительную, как грузные барки.
Батурин боялся, что Нелидова совсем не такая, какой он ее представлял. При разговорах о ней он часто ловил себя на мысли, что образ Нелидовой совсем не тот, каким был раньше, что Нелидова все больше становится похожей на Валю. Это его пугало. Возможность найти Нелидову отодвигалась.
По вечерам мадам Сиригос кричала своему блудному мужу:
– Вот посмотри на жильца из пятого номера. Это настоящий человек, не то, что ты, бабник! Он два года ищет свою женщину. Таким людям я всегда делаю уважение, – и она присылала Батурину фаршированные кислые помидоры.
Шторм прошел. Дни влеклись жаркой и донельзя тоскливой чередой. Не успевал уйти один, как в окна вползал вместе с запахом кухонного чада другой, – такой же бесплодный и белесый.
В один из таких дней Батурина осенило: он выбежал на улицу, прыгая через пять ступеней, пошел в редакцию «Красной Керчи» и дал объявление:
Всех знающих о судьбе американского киноартиста Гаррисона (сначала Батурин написал Пиррисона, потом зачеркнул и написал «Гаррисона»), приехавшего в Россию в 1923 г., прошу сообщить по адресу: меблированные комнаты «Зантэ», комната 5, от 7 до 8 час. вечера.
Принимал у него объявление маленький человечек с серыми веселыми глазами.
Ночью Батурин пошел в подозрительное «заведение Мурабова», пил коньяк, пахнувший клопами, и ждал рассвета. Тоска его достигла небывалой остроты. Он ощущал ее как физическую боль, как астму – ему трудно было дышать. Пьяная и некрасивая девушка поцеловала его в щеку, испачкав губной помадой. Батурин не вытер щеку.
Глаза его сузились, стук бутылок и ветер за окнами вызвали ощущение быстроты, приближения чуда, – он оглянулся. Он ждал, что откроется дверь, войдет Валя, как в пивной в Ростове, и скажет грозно и нежно: «Вот вы какой».
Батурин быстро встал и вышел. Одна из девушек, цыганка, вышла за ним и, прижимаясь к нему, дыша чесноком и наигранной страстью, шептала:
– Почему ты никого не взял? Такой красивый, иди со мной, жалеть не будешь.
– Уйди… – тихо сказал Батурин и остановился. – Уйди – убью…
Цыганка отскочила и скверно выругалась.
Из домов сочился затхлый запах сна. Воздух облипал лицо жидким клеем. Батурин прошел по выветренной лестнице на гору Митридат и лег на камнях.
Над Таманью синели туман и заря. Казалось, там шел ливень. Звезды горели, как фонари, погруженные в воду, – вода текла, и свет звезд колебался в этой небесной реке. В диких горах облаками нагромождался предрассветный дым.
Батурин привстал: холодная медь первых лучей ударила наискось в глаза, на портал храма, на желтые керченские камни.
Внезапно он ощутил тоску, которую был не в силах даже осознать, – скорбь о бронзовых героях и мраморных богинях, о городах, высеченных из розового камня, о радости, простой, как крик птицы, как утренняя вода из колодца. Батурин, качаясь, пошел вниз.
Догорали маяки. Он представил себе, как мимо них проходят ржавые пароходы, скрывая в трюмах ром и красный табак, копру и апельсины, канадскую пшеницу и какао. Идут из морей в моря, от вязких тропиков к белым стекляшкам северных звезд, от болотистых вод Азова в ночь Африки – блестящую черным лаком, непроглядную ночь, замкнутую в кольцо жары. Идут, шумя винтами, и исчезают в дикой зелени вод в странах, иссушающих русые волосы и сгущающих северную лимонадную кровь.
«Она должна была видеть все, – подумал он и вспомнил Соловейчика и Маню. – Если не найду Пиррисона, вернусь к ним… там будет видно…»
Днем он уснул; во сне болела голова. В сумерки его разбудили вопли мадам Сиригос. Глаша пришла в кухмистерскую пить пиво с матросами, и мадам Сиригос сводила старые счеты.
– Бросьте, мамаша, – успокоительно гудел матросский голос, – не заводитесь с девочкой, она вас все одно переплюет.
– Вон, мерзавка! – гремела мадам Сиригос. – Вон с заведенья, паскуда!
– Уймитесь вы! – кричал второй матрос и колотил бутылкой по столу. – Уймитесь, бо я не знаю, што я с вами, с двумя, сделаю!
На улице свистели и, судя по крику мальчишек и гулу толпы, неумолимый милиционер Коста приближался к кухмистерской.
Батурин встал, облился водой, долго рассматривал свои крепкие руки и усмехнулся.
– Кому они нужны?
Он сел на подоконник и смотрел на город. Сама по себе зажглась электрическая лампочка. На рейде сиял огнями пассажирский пароход из Батуми. Рыболовы зажгли на пристанях тусклые фонари. Подходила очередная ночь. Батурин разорвал на мелкие клочки полученную утром телеграмму капитана о «женитьбе на Нелидовой».
– Старая дворняга, – обозвал он капитана, прислонился лбом к косяку и задумался. Задумчивость эта была скорей оцепенением, – он не услышал стука в дверь. Стук повторился.
Батурин нехотя открыл. Тонкий силуэт женщины обрисовался на исписанной похабщиной стене. Она подняла глаза на Батурина, и он отступил. В темных этих глазах была брезгливая враждебность.
– Простите, – Батурин узнал ее низкий голос, – это вы ищете артиста Гаррисона?
– Да.
Она снова взглянула на Батурина, и на этот раз он заметил в ее глазах легкое смятение, потом вопрос. Батурин закурил и стал спиной к свету.
– В газете напутали. Я ищу не Гаррисона, а Пиррисона.
Того, что случилось, Батурин не ожидал. Он услышал крик, бросился к ней и поддержал за спину.
Мертво и страшно она свалилась на край кровати, руки ее свисали вниз, на одной из них Батурин увидел примету – серебряный браслет. Он поднял ее лицо и одну секунду пристально разглядывал: оно было холодное и белое, как у мраморных богинь, о которых он думал утром. Он налил в стакан желтоватой воды из графина. Из него перед этим пили водку: вода пахла спиртом. Зубы ее стучали. Батурин дал ей выпить несколько глотков.
– Прекратите бузу, граждане! – кричал внизу милиционер Коста. – Я тебе покажу хватать, идем в район!
– Как душно… – она открыла глаза, в них стояли слезы. – Даже голова закружилась. Если вам все равно, пойдемте к морю.
Они вышли. В кухмистерской было уже пусто, во дворе гармоника запутывала сложные лады. Шли молча. Молчанье было шумное от множества мыслей. Старухи протягивали букеты оживших к вечеру цветов и шептали:
– Возьмите для красавицы, молодой человек.
– Прежде всего скажите, кто вы и почему вы ищете Пиррисона?
Этот вопрос прозвучал как приказ. Батурин молчал.