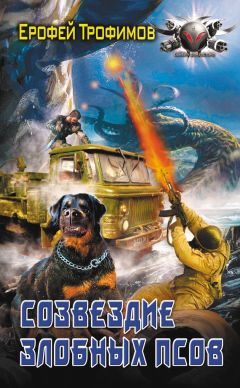свежесть залила город.
На рейде дымил грязный пароход, давая нетерпеливые гудки. Батурин вскочил на катер. Катер, выплевывая грязную воду и высоко поднимая нос, пошел к пароходу. Сразу ушла теснота. Рейд открылся исполинским озером, направо за мысом зеленело Черное море. На катере к Батурину подсел маленький человек с серыми веселыми глазами, – тот самый, что принимал объявление в «Красной Керчи».
– Уезжаете? – спросил он Батурина, как старого приятеля, придерживая от ветра зеленую фетровую шляпу.
– Нет, товарища встречаю.
– А я за новостями для газеты. Я и репортер, и корректор, и фельетонист, и все что хотите. Капитаны у меня знакомые. Иной даже иностранную газету даст – и то хлеб. Ну как, нашли вы киноартиста?
– Да, почти…
Человечек взглянул на Батурина и расхохотался.
– Чудак-покойник! Что за охота разыскивать американцев.
Катер проскочил около высокой кормы парохода, – это был «Пестель». Волна мыла красный ржавый руль. Берг висел на планшире и махал кепкой.
Он спустился по трапу в катер, расцеловался с Батуриным и, пока катер мотало у борта, успел рассказать свою одесскую историю. В Севастополе он ничего не нашел, поиздержался. Одно время питался сельтерской водой и вафлями. Потом начал писать очерки для «Маяка Коммуны» и даже привез с собой шесть червонцев.
– А я, – сказал Батурин, – нашел здесь Нелидову. У нее нет дневника. Он у Пиррисона. Где Пиррисон – неизвестно. Я еще толком с ней не говорил.
Берг обрадовался.
– Вы говорите так, будто нашли трамвайный билет. Чудак. Теперь вчетвером мы отыщем его в два счета.
Берг расспросил о Нелидовой, внимательно посмотрел на Батурина.
– Болели?
– Да, болею… – неохотно ответил Батурин. – Малярия…
Человечек с серыми глазами снова подсел к Батурину, назвал себя. Фамилия его была громкая – Глан.
На обратном пути он слушал Берга и Батурина и изредка вставлял слова, – всегда кстати. На берегу, когда Берг с Батуриным сели на извозчика, он сел с ними, и это показалось естественным. Берг, очевидно, считал его знакомым Батурина и не скрываясь говорил о поисках, новых «гениальных» планах и неудачах. У Батурина же было ощущение, что Глан – свой человек.
Около «Зантэ» Глан попрощался с ними, обещал зайти перед вечером и убежал, развевая полы дырявого пальто.
В номере Берг сказал Батурину:
– Чудесный город. Пустынный, весь в море, в греках, в камнях. Тут материалу бездна!
Батурин улыбнулся и поймал себя на мысли, что со вчерашнего дня, а особенно сегодня, когда приехал Берг, город потерял свою былую больничную мертвенность.
Берг внес суету. Он рассказал несколько нелепых историй, через полчаса познакомился с мадам Сиригос и вызвал у нее большую симпатию познаниями по части еврейской кухни. С сизого ее лица не сползала лоснящаяся улыбка.
К вечеру пришел Глан и предложил пойти выпить пива. Батурин отказался. Он сказал Бергу, что сегодня пойдет к Нелидовой один, а его познакомит завтра, – так удобнее.
– Да ведь она сегодня играет в «Потопе», – сказал Глан. – Куда же вы к ней пойдете?
Батурин вспомнил, что Нелидова звала его к десяти часам, но все же отказался. Он решил пойти в театр.
– Ну, черт с вами, – сказал Берг. – Идите. А я пойду с Гланом по пивным. Вот где должно быть бездна материала!
В пивной «Босфор» они сели под портретом лейтенанта Шмидта. В мокрых сумерках зажгли огни, – они казались особенно прозрачными и желтыми, как первые свечи на рождественской елке.
Глан был бродяга. Сумрак пивной и тишина сырого вечера располагали к разговорам. Он рассказал свою жизнь.
Родился он в Западном крае в русско-еврейской семье. Во время войны его сослали на поселение в Нерчинск за студенческие беспорядки. После революции он жил на Дальнем Востоке, работал кочегаром на паровозе, дрался с японцами и бежал от них на Сахалин. Оттуда он пробрался в Шанхай, там голодал и грузил рис на вонючие пароходы. В Шанхае он случайно отравился опиумом, пролежал два месяца в скучном французском лазарете, влюбился в сиделку-француженку. Ей об этом он не сказал и вот так, без всяких причин, назло себе уехал из Шанхая в Харбин. Потом долго скитался по России.
– Больше трех месяцев я нигде не жил, – сказал Глан, – не могу. Сосет под ложечкой.
Обезьянье его лицо с добрыми морщинками около глаз чем-то напоминало Бергу Пушкина.
Глан был пугливо-деликатен и загорался и гас с необычайной быстротой. Он знал наизусть многие стихи Блока, увлекался Гюго и с редким своеобразием перескакивал в своих рассказах от Арзамаса, где чудесно мочат яблоки с клюквой, к Самарканду, голубому от мечетей и рыжему от засухи.
Разговор с ним вызывал впечатление, какое получается при разглядывании вещей через граненый хрустальный стакан при ярком солнце. Линии смещаются, контуры очерчены спектральными полосами, земля горит оранжевым пламенем, а люди приобретают выпуклые и смуглые краски, как на картинах старых мастеров.
Берг с изумлением узнал, что Глан только сегодня познакомился с Батуриным и ничего не знает об истории поисков. Историю эту Глан выслушал настороженно.
– Возьмите меня с собой. У меня есть полтораста рублей. Как вы думаете, месяца на два хватит?
Берг усмехнулся.
– Хватит, конечно. Надо будет написать капитану.
Когда между Бергом и Гланом шла беседа в пивной, Батурин сидел в театре. Театр был душный и тесный, почти пустой. Батурин сидел задумавшись и не глядел на сцену. Нелидовой еще не было. Она играла проститутку Лизи.
Когда Лизи вошла в бар, Батурин сжался, прикрыл лицо рукой, – ему не хотелось, чтобы она увидела его. Тягучая топорность провинциального спектакля приобрела печальную остроту. Нелидова играла просто, как бы устало. Батурин отнял руку от лица, откинулся и следил за каждым ее движением. Кровь ударила ему в голову, он скрипнул зубами и прошептал:
– Черт…
Это было похоже на обдуманную насмешку. Лизи была Валей. В ней, как и в Вале, было слишком много теплоты и боли для рядовой проститутки. Та же легкая походка, волосы ее были косо и четко срезаны на щеке. Так же робко, как Валя – Батурина, она взяла за руку маклака Бира, румяного негодяя со скрипучим портфелем. Бир был Пиррисоном.
В антракте Батурин вышел на улицу и курил, прислонившись к фонарному столбу. Он хотел уйти, но после звонка вернулся в зал.
До конца спектакля он сидел с каменным побледневшим лицом. Однажды Нелидова посмотрела в его сторону и, казалось, узнала: она уронила горящую папиросу и прижала ее каблуком лаковой туфли.
После спектакля Батурин пошел к морю и выкупался с пристани. Ему хотелось еще большей свежести, почти холода. Казалось, что из него выветривается