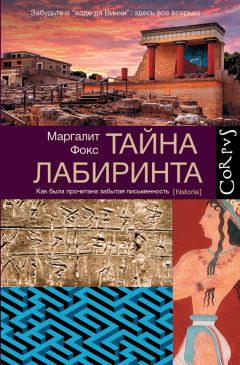Дмитрий Поляков (Катин)
Скользящие в рай
Город познакомил нас с тобой,
Город нам принес тоску-разлуку,
Он на наше счастье и любовь, вали-вала,
Поднял окровавленную руку.
– Я пришел просить руки вашей дочери! – с порога выпалил студент лесотехнического института Егор Мотыгин – выпалил с какой-то почти дерзостью, как бы заранее отметая все возможные «но» и «не», – и сразу наткнулся на острые шпили мелких облачно-серых глаз, без удивления, но с колючим вниманием уставившихся на него поверх круглых очочков. Егор сразу сдулся, покраснел и смущенно пояснил: – У вас дверь открыта… Вот я и пришел.
– Надо закрыть, – задумчиво произнес опрятный мужичок в синей, застегнутой до верхней пуговицы рубашке и в завершение прерванного дела повесил на спинку стула пару аккуратно сложенных брюк. – А то если поэтому каждый станет п-п-прихо-дить, вали-вала, невест не напасешься.
После этих слов Егор больше не знал, что говорить, и то обстоятельство, что его тут вовсе не ждали, из воображаемого преимущества неожиданно обернулось какой-то неловкой дырой. Вмиг улетучились куда-то все заранее заготовленные блестящие фразы, мысли последовали за ними – оставалось стоять на месте и глупо озираться по сторонам.
Несмотря на то что именно здесь, в этом обжитом пространстве, проходили дни и ночи любимой девушки, ничто не задевало его внимания – квартира как квартира, разве обстановка позажиточней, чем ожидал: ковры и хорошая мебель. Впрочем, поскольку вся эта накачанная им самим торжественность момента раздавила в нем способность к ясному восприятию реальности, перед глазами все немножко текло – да оно и понятно: не каждый день надумываешь жениться. Мужичок меж тем спокойно продолжал какое-то свое нехитрое занятие, содержание которого Егору было неясно да и неинтересно: он степенно передвигался по комнате, что-то переставлял, перекладывал с места на место, и при этом действовал подчеркнуто хмуро, как будто не замечал гостя. Это Егору было понятно: так ведут себя многие работяги, когда к ним пристают с досужими разговорами во время работы. Он и сам, в сущности, бывал таким, когда что-то делал руками, особенно когда навещал родителей, живущих под Костромой, и возился с покосившимся хозяйством стариков. Такое поведение даже приободрило его слегка.
– Ну чего стоишь, парень, в сенях? Иди в комнату, раз п-п-пришел, – прервался наконец мужичок и опять очень внимательно оглядел Егора с ног до головы.
Чуть вспотев и выдохнув судорожно, Егор ступил внутрь комнаты.
– Я серьезно, – заверил он. – Даша не против… Вернее сказать – за.
– Да слыхал я про тебя, слыхал, – неожиданно добродушно отмахнулся хозяин.
– Правда? – обрадовался Егор. – А ведь и я про вас – тоже!
– Дашка ничего от матери не скрывает. Ну а мать от меня, как водится.
– Вот ведь как далеко зашло-то у вас, – сболтнул Егор и торопливо поправился: – То есть выходит, что все про всё уже знают.
На самом деле никто не подозревал о намерении Егора поставить ребром вопрос о женитьбе, да и сама Даша об этом пока не знала, хотя могла и догадываться.
Мужичок погладил себя по темечку, присыпанному легоньким седоватым пушком, и вдруг улыбнулся, да так просто, радушно, земно, что Егору и самому не удалось сдержать радостную улыбку на своем взволнованном лице, – до того близким и понятным увиделся ему Дашкин папка, словно из соседского огорода вышел. «Сварим кашу», – подумал Егор с какой-то счастливой хозяйственностью.
– Переобуйся, – велел хозяин. – Мать полы мыла.
Егор поспешно шагнул назад в прихожую, стряхнул с ног свои в дым разношенные пыльные туфли и услыхал:
– Тапки надень кожаные. Там, слева, для гостей. Как звать-то тебя, жених?
– Егором! – тонко выкрикнул Егор, нагнувшись, чтобы натянуть на ноги тесноватые в общем-то тапки. – Егором Мотыгиным.
– Доброе имя, народное, – оценил мужичок, продолжая озабоченно, но с улыбкой на лице ходить по комнате. – А то у нас теперь все эдики, денисы да джоны… пижоны. Тьфу!.. И фамилия тоже работная, трудовая. Хорошо. Как у нас: полдеревни – Плуговые, а другая – Коровины. Дашку нашу, значит, хочешь в Ммома-мотыгину, вали-вала, переделать?
Он явственно заикался и помогал себе, похоже, этим непонятным вали-вала выбираться из речевых ям.
– Да нет, почему же? – смутился Егор. – Это как она сама пожелает. Мы это не обговаривали. Если захочет, может Синичкину сохранить. Чего ж Синичкину на Мотыгину? Не обязательно. Синичкина тоже хорошо. Это сейчас разрешается… А вы, надо полагать, Семен Кузьмич?
– Он самый.
– А Зоя Спиридонна… это самое…
– Вышла. В магазин пошла.
– В магазин?
– В магазин.
– За продуктами?
– Ну да. Хлеб, яблоки…
– Ага. Вот. Понятно. Гм.
Оттого ли, что долго готовился, перебирая в голове всякие варианты знакомства с родителями невесты, а еще оттого, может быть, что таким важным казалось ему, не имевшему ни кола ни двора в благословенной столице (кроме койки в общежитии), произвести благоприятное впечатление на будущих родственников, но в ответственный момент голова его вновь опустела, как двор, с которого вымели все мысли. Без всякой к тому надобности Егор отметил, что хозяин был хоть и жилист, но уже сутул той особенной немолодой сутулостью, как если бы жизнь влепила ему крепкую затрещину, да такую, что как втянул он голову в плечи, так навсегда и остался. Обстоятельный мужичок, тоскливо подумал Егор, глядя, как тот, повесив брюки себе на локоть, отбивает стрелки ребром ладони. Вот Мишка Туроверов обычно просто кладет свои брюки под матрац и спит на них, чтобы не гладить, а сам Егор купил выходные брюки с немнущимися стрелками на рынке, очень модно смотрящиеся, из какой-то пластмассовой ткани в жеваную клеточку – гладить вообще не надо. Ему даже завидовали, но уж таких оригинальных штанов было не сыскать.
Егор вздохнул и смазал пот со лба сырой ладонью, опять вздохнул и приуныл. Во рту появился сухой привкус провала. Хотелось рассказать хоть чего-нибудь такое, чтобы понравиться, но не про жеваную же клеточку на брюках (и дались ему эти брюки!), а другого в голову ничего решительно не шло. О чем ни подумаешь – все или про бутылку водки, лежащую в портфеле для упрочения торжества, или про забор, перестроенный им для родителей из старых досок, или про брюки.
Тем временем мужичок (это звание как-то особенно к нему шло) прервал свое занятие, вновь окинул Егора несколько удивленным взглядом, даже снял и протер очки, словно намеревался поподробнее разглядеть незваного гостя, и вдруг горестно вздохнул сквозь не сползающую с губ улыбку.
– Ну что ж, садись, парень, раз пришел, в ногах правды нет, покалякаем, – сказал он сердито и радушно одновременно. И даже вынужденно как-то.
Егор быстро присел на стул в углу комнаты, хозяин встал перед ним, уперев кулаки в поясницу, и оба уставились друг на друга немигающими глазами. Не отводя глаз, Егор нагнулся к портфелю, открыл его и робко потянул за горлышко припасенную бутылку:
– Вот принес…
Но хозяин неожиданно решительно запротестовал, смахнув наконец с лица поднадоевшую приветливую улыбку:
– Это ты убери. Этого ни я, ни мать, ни Дашка, этого мы не любим.
– Да?.. – Бутылка моментально соскользнула назад в портфель. – И я тоже… Вроде полагается… вот и взял…
– Никогда н-не бери. Выпивающий, что ли?
– Я? Нет. Только по праздникам.
– По праздникам разрешается, – наставительно заметил мужичок. – А нам с тобой до праздника еще познакомиться надо.
Не сходя с места, он зацепил ногой второй стул, ловко подтянул к себе и сел на него, чуть развалившись, но без важности или чванства, а как обыкновенный отец, озабоченный будущим своей дочери. Помолчал, нахмурился и спросил:
– Ладно, Егор, как жизнь мыслишь?
– Что? – не понял жених.
– Ну, жизнь мыслишь как? – повторил он, словно от перестановки слов вопрос становился понятнее.
– Это самое, – сказал Егор, – хорошо.
– Хорошо-то хорошо. Это нам всем приятно. А вот какая в тебе мечта имеется?
– Ну какая? Пожениться… дети там… внуки…
– Эх, Егор, – мечтательно протянул Семен Кузьмич, – разве ж это мечта?
– А что тогда мечта?
– Мечта – это… это такая штука бродяжья. Это ж одним словом не скажешь.
– Ну а как же тогда?
– Вот представь-ка себе: поле, лесок в окоёме… темнеет, потому что в нем елок и всяких других темных растений всегда очень много. А по небу облачки тянут – и такие, и эдакие. Всякое себе на уме. И вот так речка, прямо вот под тобою, прям так, зараза, сверкает алмазно, что дух захватывает. Птицы, сверчки. Деревня позади. Вот сидишь и смотришь.
Сказал и умолк. Весьма кстати из настенных часов донесся шорох, и электронный голос прокуковал пять раз. Семен Кузьмич сидел прямо и глядел на Егора деревянным оком, как бы спрашивая его: «Понятен тебе мой интерес?» – но Егор не понимал. Он хотел только жениться, рожать детей, внуков, и в этом искренне усматривал признаки нормальной людской мечты, понятной и приятной, как ему думалось, любому. Однако что-то сказать было надо, и он сказал: