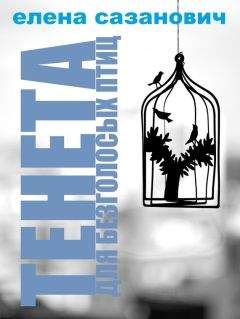Шагнув в эту неизвестную темноту, в эту темную неизвестность, я вдруг подумал, что с каждым шагом мы все больше теряем надежду. И мир, в котором мы когда-то жили, счастливо или не очень, удачно или нет, остался далеко позади. Но это был наш мир, и всем меньше всего хотелось его потерять. И с каждым шагом мы удалялись от него. И с каждым шагом – теряли его… Наверно, еще и потому, что среди нас не было (и не могло быть) Данко.
Самое страшное, что мы шли в пустоту. Это была равномерная, какая-то ритмичная, и к тому же развлетвленная пустота. Единственным живым в ней осталось лишь время. Тикающие часы. Время, существующее независимо от жизни и смерти. От живых и мертвых. Время – единственная вечная вещь на Земле, да и во всей Вселенной. И единственно непобедимая. В этой оглушающей пустоте я ощущал его почти физически. И мне вдруг показалось, что мы жили в этой пустоте всегда. Что это точная модель нашей жизни. В которой лишь время оставалось живым. А все остальное – лишь механические движения тел и мыслей. Бессильные, покорные жесты сердца и разума, подчиняющиеся законам времени. И иллюзорно заполняющие пустоту. Мы были заживо погребены…
Впрочем, не умер ли я давно? Да, с какого времени началась моя смерть?.. Впрочем, это просто – с того, когда закончилась моя жизнь. Неужели она закончилась вместе с любовью? Или с утратой надежд? Или – потерей ценностей? Или – с падением мира? Пожалуй, здесь все причины вместе. Так называемое, стечение обстоятельств, продиктованные жизнью. Которым я не мог сопротивляться. Или не умел. Я всегда плыл по течению. Впрочем. Всякая юность плывет по течению, стремительно, на реактивной скорости подбирая все, что попадет под руку. За что, уже потом, в зрелости, мы и расплачиваемся. Когда уже далеко не у всех остаются силы и возможности платить…
Так вместе с юностью плыл по течению и я. Оно и принесло меня к Варе. Это было самое лучшее и счастливое приобретение в жизни. Так мне тогда казалось. Тем не менее, и за него приходилось расплачиваться. Впрочем, за любовь нужно платить всегда. Хотя нужна ли она тогда вообще? Однако перед юностью этот вопрос не стоит. И осторожничать приходиться гораздо позднее. И не каждому это удается.
Мы поступили в один институт, на один курс, в одну мастерскую. Варя понравилась мне сразу. Но влюбился в нее я не сразу. По-настоящему – только зимой. Да, пожалуй, только зимой я посмотрел на нее другими глазами. Не как на сокурсницу, подружку и собрата по перу. Однажды я просто увидел очень хорошенькую девушку.
Помню, как мы все дружно провалили экзамен по философии. Накануне всю ночь шумно праздновали свадьбу Витьки Затрубного, парня с последнего курса.
Крупный, с выгоревшими волосами и носом-картошкой, он гордо восседал в центре стола, как на троне, рядом с молодой женой и напоминал довольного жизнью купеческого сына. По его виду трудно было догадаться, что до литературного он с успехом закончил институт Дружбы народов и в совершенстве владел непальским языком. Впрочем, большую часть своей жизни он провел с родителями именно там, в Непале. А за это время и осла можно научить петь соловьем, особенно если он родился в соответствующем гнезде.
«Дружбы народов» Витьке показалось мало. И он успешно перевел несколько рассказов малоизвестных непальских писателей на русский, изменив труднопроизносимые восточные фамилии на отечественные и выдав творения за свои. После чего с не меньшим успехом поступил в литературный институт, и довольно хорошо в нем проучился. Периодически наезжая к родным, по-прежнему живущим в Непале, собирая местный фольклор и переводя его на родной язык. Ко всему прочему, несколько Витькиных рассказов даже опубликовали толстые журналы. А бедные непальцы так и оставались пребывать в мировой неизвестности.
Пожалуй, из Витьки вышел бы неплохой переводчик. Но он хотел быть только писателем, решив для себя, что от развития национальной непальской культуры не убудет. И тем самым поставил жирную точку в споре между совестью и тщеславием. К тому же он считал, что мир настолько огромен, что вряд ли какой-нибудь непалец когда-нибудь прочтет Витькины творения и прилетит в Россию, чтобы справедливо намылить ему шею. Для этого нужно было, чтобы Витька встал где-то рядом со Львом Толстым, по меньшей мере. Но он на это место не претендовал, впрочем, как и непальские коллеги.
Помню, я тогда подумал, как, в сущности, легко всю мировую культуру превратить в хаос. Стоит только присваивать рассказы и стихи друг друга, друг у друга списывать музыку и картины. И разве потом можно будет найти настоящего автора? А еще я подумал, что не хочу стать малоизвестным непальским писателем. Тогда уж гораздо благороднее быть малоизвестным юристом или инженером.
Впрочем, Витька так не думал, даже не собирался. Он восседал, как на троне, в центре стола, рядом с молодой женой, довольный жизнью и собой.
Поначалу, с понтом старшекурсника, он не хотел приглашать нас на свадьбу. Тем более, что мы не так уж были и близки. Но, изрядно подвыпив, он стал милосерден и щедр. И все проживающие рядом были призваны в небольшую общажскую комнату на большую пьянку. Перед экзаменом это был отличный повод не готовится. А потом, с высоты своего положения Витька заверял нас, что сдать философию – раз плюнуть, поскольку профессор еще слишком молод и бесконечно добр.
На экзамен мы явились, как и подобает после пирушки, мятые, с распухшими носами и огромными кругами под глазами. Точные копии Витьки Затрубного. Казалось, еще чуть-чуть и мы все легко заговорим по-непальски. Впрочем, тогда это было реальнее, чем успешная сдача экзамена по философии.
Профессор был действительно молодым, но – в отличии от Витькиных заверений – весьма кровожадным. Проваливались мы по очереди. И если бы была возможность, то мы лучше бы провалились сквозь землю.
Последней (по большому блату) в очереди на эшафот стояла Варя. Поскольку каждый из нас мог хоть что-то более-менее членораздельное промычать, то Варя вообще ничего не могла сказать. Тогда больше всех удалось «мычать» Ладе, надо отдать ей должное. А вот Медузаскаусас от волнения стал отвечать по-литовски, но его пламенную речь профессор не захотел воспринимать. Я же в свою очередь совсем не к месту вспомнил, что великий философ Галилео Галилей построил телескоп и открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера и пятна на Солнце. Но мои воспоминания профессора совсем не взволновали. Хотя он оценил мои познания в астрономии и даже посоветовал подумать о смене профессии.
Впрочем, Варя все равно откровенно не желала вести диалог. Она сидела напротив молодого профессора и с детской непосредственностью хлопала глазками. На каждый вопрос она отвечала недоуменным молчанием, при котором ее черные дугообразные брови удивленно взлетали вверх. Казалось, Варька даже обиделась, что ей задают какие-то дурацкие вопросы. О какой-то онтологии и гносеологии. «Фу, и слова такие выговорить невозможно!» – говорил весь ее вид. А профессор таял на глазах. То краснея, то бледнея. Хотя это еще ничего не означало. И мы уже нетерпеливо поглядывали на часы, ожидая очередной «пары» и завершения экзекуции.
– Итак… Вы так ничего и не скажете? – преподаватель запнулся и виновато посмотрел на Варю. И, решив дать ей последний шанс, взмолился. – Ну, по учению о бытии и теории познания. Или хотя бы что-нибудь по вопросам философии вообще.
Варя печально вздохнула и кокетливо забросила прядь за ухо.
– По философии, – наконец удосужилась что-то сказать она. – Вопросами философии, профессор, лучшие умы человечества занимались веками. А у меня для их изучения было всего два дня. Согласитесь, разве это реально? И разве не унизительно для философов?
Профессор пристально поглядел не Варю. А мы замерли.
– Ладно, идите, – шумно выдохнул он. – Пять баллов.
Мы онемели. Никто не собирался подставлять Варю, протестуя против таких «двойных стандартов», когда все остальные получили по «двойке». За исключением, естественно, Лады, которая от возмущения заорала на всю аудиторию о несправедливости мира, о том, что Варька вообще ничего не ответила и что все это возмутительно! Да и на каком основании?!
– На каком основании? – пожал плечами профессор. – Ну, например, на том, что я все же профессор. И именно поэтому могу ставить любую оценку, даже отличную, любой понравившейся мне студентке.
Аргумент был веским и весьма откровенным. И вот тогда, именно тогда я посмотрел на Варю другими глазами. Глазами профессора. И после экзамена предложил ей прогуляться по вечернему заснеженному городу.
– Или тебя уже провожает профессор? – на всякий случай спросил я.
Варя в ответ рассмеялась. И на ее щеках появились детские ямочки.
– Говорят он законченный женоненавистник. И сегодняшний поступок был его первым и, наверное, последним подвигом по отношении к женщине.
Варя всегда умела ненавязчиво набить себе цену.