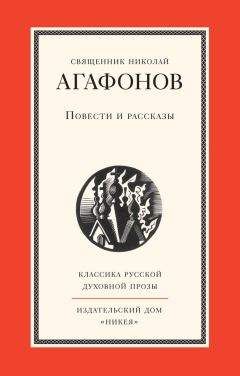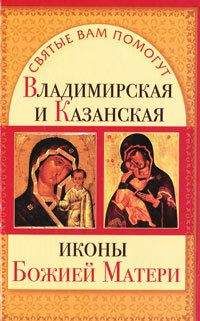Ознакомительная версия.
– Готов, готов искупить вину, – действительно с большой готовностью воскликнул Петр и растерянно улыбнулся.
– Вот-вот, искупите. Мы соберем сход, и вы и ваш молодой помощник пред всем народом откажетесь от веры в Бога и признаетесь людям в преднамеренном обмане, который вы совершали под нажимом царизма. Ну а теперь, мол, когда советская власть дала всем свободу, вы не намерены дальше обманывать народ. Словом, что-то в этом роде.
– Да как же так? Это невозможно, это немыслимо. – Отец Петр повернулся к Крутову, как бы ища у него поддержки и осуждения немыслимой просьбы.
– Вот вы идите и помыслите, через полчаса дадите ответ, – спокойно сказал комиссар.
А Крутов пьяно расхохотался:
– Иди, поп, да думай быстрей! А то тебя комиссар шлепнет, и твою попадью, и вообще всех в расход.
При этих словах Коган неодобрительно посмотрел на Крутова и поморщился.
– Помилуйте, а их-то за что? – испуганно воскликнул отец Петр.
– Как это за что? А как ваших пособников, – наклоняясь вперед над столом, негромко, но отчетливо произнес Коган, глядя прямо в глаза Петру.
Тот с ужасом поглядел в колючие глаза комиссара и упавшим голосом произнес:
– Я согласен.
– А ваш юный помощник? – не унимался Коган.
– А, Степка. Он послушный, как я благословлю, так и будет.
51
В просторном дровянике сарая у поленницы дров стоял Степан и молился. Вскоре открылась дверь и в нее втолкнули отца Петра. Степан оглянулся на него с вопросительным взглядом. Но отец Петр, ошарашенный и подавленный случившимся, даже не посмотрел на Степана, молча прошел, сел на большой чурбан и обхватил голову руками. Степан какое-то время смотрел на отца Петра, а потом отвернулся и вновь начал молиться.
«Господи, – думал отец Петр, – что же мне делать? Ведь Ты же сам говорил: кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом
Моим Небесным[36]. Но как же тогда апостол Петр? Ведь он тоже трижды отрекся от Тебя, а затем раскаялся. А если я, как уедут эти супостаты, покаюсь перед Тобою и народом? Что тогда? Ведь Ты милостивый, Ты простишь меня? А то как же я матушку одну с детишками оставлю? А ведь могут и их тоже… того. Нет, нет, я не имею права распоряжаться их жизнями. Да, вот именно не имею. Ты слышишь, Господи, вопль моей души? Нет, Ты не слышишь. Или я не слышу Тебя?»
В это время дверь в сарай открылась и, заглянув в нее, красноармеец Кравчук крикнул:
– А ну, контра, выходи оба.
52
Возле большой избы с высоким крыльцом толпился народ.
– Товарищи крестьяне! – громко вещал с крыльца избы Коган. – Сегодня вы протянули руку помощи голодающему пролетариату, а завтра пролетариат протянет руку трудовому крестьянству. Этот союз рабочих и крестьян не разрушить никаким проискам империализма, который опирается в своей борьбе со светлым будущим на невежество и религиозные предрассудки народных масс. Но советская власть намерена решительно покончить с религиозным дурманом, этим родом сивухи, отравляющим сознание трудящихся и закрывающим им дорогу к светлому царству коммунизма.
В это время Кравчук подвел к крыльцу отца Петра и Степана. Их тоже поставили на крыльцо позади комиссара. Коган, указывая на отца Петра, продолжал:
– Вот и ваш священник Петр Трегубов – человек свободомыслящий, и потому более не желающий жить в разладе со своим разумом и совестью. А совесть и разум подсказывают ему, что Бога нет, а есть лишь эксплуататоры епископы во главе с главным контрреволюционером – патриархом Тихоном. Об этом он сейчас вам и сам скажет.
Мужики слушали оратора понурив головы, но, услышав фразу, что «Бога нет», встрепенулись и с недоумением воззрились на оратора, а затем с интересом перевели взгляд на священника. Петр, подталкиваемый Коганом, выступил вперед и, не поднимая глаз, негромко проговорил:
– Простите меня, братья и сестры, Бога нет, и я больше не могу вас обманывать. – Потом он вдруг, подняв глаза, надрывно прокричал: – Не могу, вы понимаете, не могу.
Ропот возмущения прокатился по толпе. Вперед, отстраняя Петра, снова вышел Коган.
– Вы должны понять, товарищи, как трудно это признание досталось Петру Аркадьевичу, бывшему вашему священнику. Он мне сам признавался, что думал об этом уже давно, но не знал, как вы к этому отнесетесь.
– А чего там не знать, – крикнул кто-то из толпы, – так же, как и к Иуде!
Коган сделал вид, что не расслышал выкрика, и продолжил:
– Вот и молодой церковнослужитель Степан думает так же. И это закономерно, товарищи: им, молодым, жить при коммунизме, где нет места церковному ханжеству и религиозному невежеству.
При этих словах он подтолкнул побледневшего Степана вперед.
– Ну, молодой человек, скажите народу слово.
Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что он не подготовил Степана, потому, подойдя к нему сбоку, шепнул:
– Степка, отрекайся, а то расстреляют. Ты еще молодой, потом на исповеди покаешься, я дам разрешительную.
Степан повернулся к нему. На Петра смотрели ясные и удивленные глаза. Но тут же удивление во взгляде Степана сменили скорбь и немой укор.
– Вы уже, Петр Аркадьевич, ничего не сможете мне дать, а вот Господь может дать венец нетленный, разве я могу отказаться от такого бесценного дара?
Повернувшись к народу, Степан посмотрел на притихшую толпу крестьян. А затем твердым и спокойным голосом сказал, осеняя себя крестным знамением:
– Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз…[37]
Лицо Когана при этих словах болезненно перекосилось, точно так же, как тогда, в монастыре, после слов исповедания отца Тавриона, и он, переходя на визг, закричал:
– Саботаж! Митинг закончен, расходитесь! – и для убедительности, выхватив из кармана револьвер, выстрелил два раза в воздух.
53
Взбешенный Коган вошел в горницу и, подойдя к столу, налил полстакана самогонки. Тяжело вздохнув и злобно посмотрев на иконы, висевшие в углу избы, залпом выпил и, поморщившись, обессиленно сел к столу.
– Ого! – удивленно воскликнул Крутов. – Ты, Илья Соломонович, так и пить научишься по-нашему.
– Молчать! – вскричал в бешенстве Коган.
– Но-но, – с угрозой в голосе проговорил Крутов, – мы не в царской армии, а ты не унтер-офицер. Хочешь, я шлепну этого сопляка, чтоб другим неповадно было? А оскорблять себя не позволю.
– Прости, погорячился, – примирительно сказал Коган. – А шлепать пока никого не надо. Теперь как раз нельзя из него мученика за веру делать. Надо бы сломить его упрямство, заставить гаденыша отречься. Это главная идеологическая задача на данный момент.
– А чего тут голову ломать?! В прорубь этого кутенка пару раз обмакнуть, поостынет кровь молодая, горячая – и залопочет. Не то что от Бога – от всех святых откажется.
– Хорошая мысль, товарищ Крутов, – обрадовался Коган. – Так говоришь, сегодня у них праздник Крещения? Хм, хорошая мысль, – повторил он как бы для себя. – У них свое Крещение, а мы устроим наше, красное крещение. Возьми, Крутов, двух красноармейцев понадежней, забирайте щенка – и на реку.
– Ну уж нет, в бою никому не уступлю, – усмехнулся Крутов, – а с юнцами да попами воевать – это не для меня.
– Да ты, товарищ Крутов, не понимаешь всей важности идеологической борьбы.
– Не понимаю, – признался тот с ухмылкой, – потому комиссар не я, а ты, товарищ Коган.
54
Петр зашел в избу с видом побитой собаки и, пройдя по горнице, сел у стола на свое место в красном углу. Он ощущал странную опустошенность, как будто в душе его образовалась холодная темная пропасть без дна.
Матушка подошла и молча поставила перед ним хлеб и миску со щами. Он как-то жалостливо, словно ища поддержки, глянул на нее, но супруга сразу отвернулась и, подойдя к печи, стала сердито греметь котелками. Дети тоже не поднимали на него глаз. Младшие забрались на полати[38], старшие сидели на лавке, уткнувшись в книгу. Четырехлетний Ванятка ринулся было к отцу, но тринадцатилетняя Анютка перехватила его за руку и, испуганно оглянувшись на отца, увела малыша в другую комнату.
Отцу Петру до отчаяния стало тоскливо и неуютно в доме. Захотелось разорвать это молчание, пусть через скандал. Он вдруг осознал, что затаенно ждал от матушки упреков и укоров, – тогда бы он смог оправдаться и все бы разъяснилось, его бы поняли, пожалели и простили, если не сейчас, то немного погодя. Но матушка молчала, а сам отец Петр не находил сил, чтобы заговорить первым, он словно онемел в своем отчаянии и горе. Наконец молчание стало невыносимо громким, оно стучало, словно огромный молот по сознанию и сердцу.
Отец Петр поерзал на лавке, словно ему было неудобно сидеть, а затем встал, вышел из-за стола и бухнулся на колени перед женой:
– Простите меня, Христа ради…
Матушка обернулась к нему, ее взгляд, затуманенный слезами, выражал не гнев, не упрек, а лишь немой вопрос: «Как нам жить дальше?»
Ознакомительная версия.