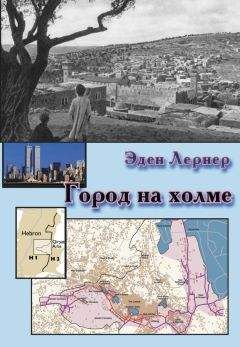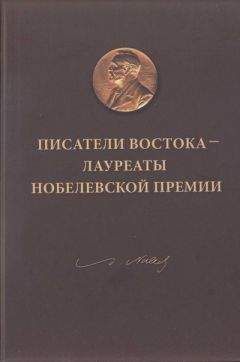− Не разрушай наш дом. Не уходи из него. У меня никогда не было дома ни с кем, только с тобой. Офира старалась, но я всегда помнил, кто жил в той комнате до меня. Никто кроме тебя не сможет меня ждать. Это и есть делать дом из четырех построенных стен. Не лишай меня этого, не забирай, Малка, прошу тебя…
Она прижималась ко мне все теснее и теснее, я уже не понимал, где я заканчиваюсь и где она начинается. Ты иногда бываешь феноменально туп, Стамблер. Ты что, не мог с этого начать? Я действительно иногда бываю феноменально туп, особенно когда кровь отливает от головы. С чего начать? Я гладил ее по спине, ощущая такой знакомый рельеф под пальцами – шрам на шраме. Наверное, я должен был начать со слова прошу, и тогда не понадобилось бы ничего больше.
Этот год мы воспитывали Шимона на правах временных патронатных родителей. Документы ему не поменяли, там стояло арабское имя, но я не стал им интересоваться. Мы живем в параллельных реальностях. Хеврон – Эль-Халиль, Йом Ацмаут – Накба, Эрец-Исраэль – Фалестин. Меня моя реальность более чем устраивает.
Первые полгода Шимон молчал, а потом его прорвало разговаривать на смеси русского и иврита, причем русский в этом наборе преобладал. Меня он по примеру остального коллектива называл “аба”, быстро научился таскать конфеты, очаровывать народ, чтобы посмотреть мультики, и лазить куда его не приглашали. Нормальный балованый еврейский ребенок, что, собственно, от него и требовалось.
А вот с Рахелью, вернее, с ее обезумевшей от ненависти мамашей, были сплошные проблемы. Хорошо, пускай она ненавидит евреев, но даже суки и кошки не отказывают новорожденным щенкам и котятам в грудном молоке. Фейга отказалась кормить свою дочь и ни разу не нее не взглянула. Отвергнутая матерью, Рахель еле цеплялась за жизнь, плохо набирала вес. Надзирательницы подходили к ней, только чтобы покормить и сменить памперсы, и я не мог их за это винить, они и так делали больше своих обязанностей. Нам ее не отдавали, потому что до двух лет заключенная мать имеет право держать ребенка при себе. За всю историю Неве Тирцы такого еще не было. Если мать отказывалась от ребенка, его брали родственники. Надо ли говорить, что Рахелью не интересовался никто, кроме нас.
− А что вы хотите? – говорила пожилая усталая тюремный психолог нам с Малкой и соцработнице, кстати, малкиной приятельнице. – Она так рассуждает: если девочку все равно заберут, все равно отдадут ненавистным евреям, то зачем ее кормить, зачем к ней привязываться? Кстати, чует мое сердце, просидит ваша Фейга десять лет в одиночке. Ну, куда ее сунуть? Ни к арабкам, ни к еврейкам.
Малка сидела молча и роняла слезы на сумку с детскими вещами. Она ненавидела себя за то, что у нее нет молока.
− Чем вы ее пока кормите? – спросила соцработник.
− Формулой из бутылочки.
− А у вас других кормящих женщин нет?
− Еврейка одна. Сами понимаете, арабкам ее доверять нельзя. Задушат или головой об стену.
− А почему вы не отдали ребенка еврейке, у которой есть молоко?
Психолог и соцработник уставились на меня, как будто я сморозил несусветную глупость. Так оно и было.
− А как вы себе это представляете? Ребенка в общую камеру, к уголовницам? Там и убийцы есть. Кстати, женщина, о которой идет речь, убила любовницу мужа. И потом, я не имею права заставлять заключенную кормить дополнительного младенца.
− Скажите, – зашелестела Малка, – а детоубийцы в той камере есть?
− Нет. Детоубийцы у нас по одиночкам сидят, их другие заключенные женщины ой как не жалуют.
− Ну хорошо, заставлять эту женщину нельзя, но попросить ее можно? Она сейчас не занята?
− Да чем она может быть занята? Плеер слушать?
Психолог набрала охранный пункт.
− Лираз, ты? Да нет, ничего не случилось. Приведи заключенную в комнату номер 12. Сигалит Сасон, ну ту, которая недавно мальчика родила. Мы сейчас туда подойдем.
Сигалит Сасон оказалась веселой круглолицей бабенкой с прической, которую Малка называла “мама-использует-мою-голову-вместо-швабры”. Войдя, она уставилась на меня с таким живым интересом, что я понял, что мужчин они тут не видят месяцами.
− Ну, как дела? – поинтересовалась психолог.
− Прекрасно! – лучезарно заулыбалась Сигалит. – Эту красоту (плотоядный взгляд в мою сторону) вы мне в качестве премии решили показать?
− Я ищу кормилицу для ребенка, – перешел к делу я.
− А чей ребенок? – спросила Сигалит.
− Мой. Наш. И твой в том числе.
Это предисловие сфокусировало ее внимание, и я рассказал, что хотел.
Ее круглая мордашка вытянулась от ужаса, рот приоткрылся.
− А мы с девочками сидим и гадаем, что это за новая заключенная, которую даже арабки в свою камеру не хотят.
− Теперь ты знаешь. Ну, как, ты согласна кормить Рахель?
− Да.
− Сигалит, ты хорошо подумала? – встряла психолог. – Тебе придется не только кормить, но и ухаживать. Делать все, что ты делаешь для своего сына. Зачем тебе это?
− Я своему обормоту четырех сыновей родила, а ему, видите ли, свеженького захотелось. К тому времени, как я отсюда выйду, я вряд ли смогу рожать. У меня никогда не будет девочки. Но на моей совести всегда будет висеть та женщина, чью жизнь я забрала. А тут хоть кусочек радости. Хоть доброе дело. Вы же делаете мицву, я тоже хочу поучаствовать.
На ее лице уже не было ни глупости, ни похоти, только одухотворенная красота, только наперекор всему надежда на то, что ее грех будет искуплен. За минуту до этого я всерьез собирался спрашивать, сколько она хочет за свои услуги кормилицы и няни, а сейчас понял, что даже если бы я встал перед ней на колени, этого было бы недостаточно. Господи, ну почему то, что очевидно этой не шибко умной простой женщине, да еще заключенной, не ясно нашей элите – политикам, журналистам, раввинам?
Малка бесшумно скользнула со своего стула, села на скамейку рядом с Сигалит и достала из сумочки блокнот с ручкой. Наклоняясь к Сигалит так, что их волосы почти соприкасались, она зашептала так, как будто по большому секрету.
− Тебе понадобится больше еды. Когда я кормила двоих, то ела в три горла, и все равно было мало. Скажи, что тебе можно, а что нельзя, и все будет.
− Схуг нельзя. От него у младенцев колики. Цветную капусту и брокколи нельзя, их от этого пучит. На лосось у меня аллергия. И шоколад нельзя. То есть мне-то можно, а мой сын потом сыпью покрывается и полночи не спит. А так все можно.
И было так. Сигалит кормила Рахель, носилась с ней, как с писаной торбой, и Рахель стала расти, переворачиваться, держать голову, лепетать и улыбаться. Визиты нашей дочери в общую камеру проходили на ура, каждая еврейская зечка хотела поучаствовать в мицве. Когда мы через полгода забрали Рахель, с ней ушло два мешка(!) одежды, лично для нее сшитой и связаной теми зечками, которым разрешалось иметь в камере острые предметы. Когда мы уходили, они во главе с Сигалит столпились в тюремном дворе нас провожать. Воздух звенел от счастливых женских голосов:
− Удачи вам!
− Мазаль тов!
− Спасибо!
− Не забывайте нас! Фотографии присылайте!
− Какая она красотка, наша бат Неве Тирца!
* * *
Как-то раз субботним утром мы с Малкой выгуливали наш коллектив в парке. Через час коллектив устал от прыжков и беготни, и мы сели на скамейку попить и перекусить.
− Мама, дай банан! (это Шимон).
− Мама, можно я ей дам бутылку? (это Реувен).
− Фири надо а-а (дальше что-то по-русски).
− Шрага, дай ему банан, тебе ближе.
− Аба, я вниз головой хочу! (это опять Шимон)
− И я хочу! (это Реувен).
Имелись в виду крутилки и вертелки в воздухе, для которых мама не подходила, зато папа был в самый раз.
− Ваксун ви а цибелэ мит а коп ин дрэрд[289] – как всегда вылез идиш в самый неподходящий момент. Малка привыкла, а вот молодежь застыла от неожиданности и уставилась на меня с открытыми ртами. Я счел за лучшее перейти на иврит.
− Шимон, вот тебе банан. Реувен, вот тебе сок. Вот так, дай ей бутылку, не урони. Малка, бери это чудо и идите а-а. Мы вас здесь подождем.
В общем, все занялись своими делами, и только тут я увидел, что с соседней скамейки за нами напряженно следят. Девушка-подросток в длинной юбке. Что я ей скажу? Разглядывать людей в общественном месте не запрещено. Совсем еще детское лицо искажено напряженным взрослым выражением, взгляд прикован к Шимону, урчащему над бананом. Я шагнул к скамейке и спросил:
− Я могу чем-то тебе помочь?
Она с трудом оторвала взгляд от детей и перевела на меня.
− Реб Шрага, это вы?
Нет, не я.
− А ты-то кто?
− Гитте Лея Городецки. Фейга моя старшая сестра.
Точно, у Фейги была младшая сестренка, Гитте Лея. Между ними было два брата. Теперь я ее узнал.
На ее лице был написан страх и усилия воли по преодолению этого страха. Несмотря на жару, она зябко куталась в кофту, ветер из пустыни шевелил каштановые с рыжиной пряди, выбившиеся из косы.