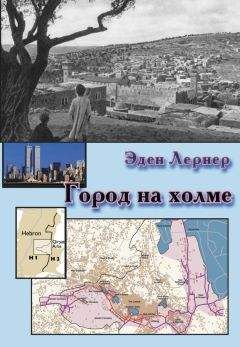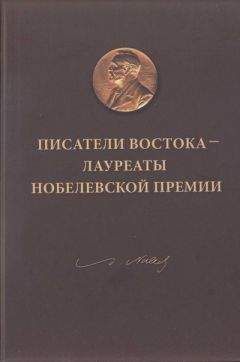− Я не собираюсь тебя спасать. Я собираюсь сделать так, чтобы ты предстала перед военным судом как пособница террориста и получила максимальный срок.
Голубые глаза сначала расширились от страха, а потом сузились от ярости.
− Детей ты не получишь.
− Ты родишь, прикованная наручниками к кровати. Я и моя жена будем воспитывать твоих детей как своих. Как евреев.
− Зачем тебе? Или твоя китайская кукла не способна рожать? Или она только минеты умеет делать?
Что-то сверкнуло у Фейги в руке, плоский заостренный кусок металла, похожий на лезвие. Я пригнулся, и она хоть неглубоко, но все-таки успела меня полоснуть. Рана жгла и саднила, оливковая форма набухла и потемнела. Я держал ее за запястья, а она вырывалась и плевалась мне в лицо горячей слюной. Я был счастлив. Теперь ее точно посадят.
Обеспокоенные тем, что из-за двери перестали доноситься голоса, ребята ввалились на кухню и увидели нас и следы крови на полу. Эйтан быстро и четко надел Фейге пластиковые наручники и привязал ее к стулу.
− Аккуратно! – подал голос я.
− Ты еще здесь, Стамблер! – разозлился Эйтан. – От тебя одни проблемы! Марш в санчасть, чтобы я тебя не видел здесь больше! Немировский и Эфрат, пойдете с ним. Навязали вас, резервистов, на мою голову. Увидел беременную бабу и решил играть в гуманизм? Да она бы даже в родах тебя полоснула! Марш отсюда!
− Она еврейка. Ребенок один из нас. Старший, соответственно, тоже.
Все замерли, стало слышно, как гудит одинокая муха под потолком.
− Откуда ты знаешь?
− Мы были соседями. Она жила в Меа Шеарим.
Теперь у них сложились в общую картину неарабская внешность Фейги и ее хороший, но странноватый иврит.
− Она хотела уйти?
− Я сам на это надеялся. Но, как видите, нет.
Я встал со стула, и Эфрат очень вовремя подставил мне плечо. От счастья и от потери крови кружилась голова.
− Я тебе не ответил, Фейга. Малка способна. У нас двое своих детей. А зачем мне это, ты все равно не поймешь. Американцы, спасавшие своих детей из Вьетнама, поняли бы. Но не ты.
В этот вечер я еще услышал от Эйтана полный набор, включавший в себя “навязали-вас-резервистов-на-мою-голову”, “чем-ты-вообще-думал” и “газетчики-съедят-нас-с-костями”. Но он выгородил меня перед начальством, и взыскания на меня никто не наложил. Он не мог этого вслух сказать, но знал, что я прав. В конце концов, речь идет о человеке, который, лежа на больничной койке, сказал пришедшему к нему с протокольным визитом президенту Бушу:
− Free Jonathan Pollard, Mr. President[288]!
В том, что Малка поддержит меня, я не сомневался. Еврейские женщины и их дети, застрявшие в арабской среде, были для нее источником боли, потому что чаще всего она была не в силах им помочь. Она обрадуется, что хоть двое еврейских детей, спасенных из арабского плена, обретут у нас дом и семью. Страшно даже подумать, что их в Дженине ожидает. Мать в тюрьме, отец в бегах. Арабского сироту всегда защитит родня, клан, из которого происходит мать. Можно сказать, что я действую в рамках арабской же культуры. У Фейги есть клан. Ам Исраэль.
Но ничего не могло подготовить меня к тому, что израильское общественное мнение в очередной раз расколется по вопросу “кто-же-все-таки-еврей”, что люди начнут вслух говорить о том, что наше общество безжалостно к женщинам, и если ушло вперед от арабского, то не очень далеко. Организация “Бе-целем” наняло Фейге адвоката. Во всех интервью она утверждала, что я приставал к ней, а она оборонялась. Всем было ясно, что эти заявления шиты белыми нитками, но журналисты любят жареное. Особенно повеселила меня история, как я из садистского удовольствия разрядил в фейгиного мужа всю обойму после того, как он сдался и, связанный, лежал на полу. В своем стремлении вывалять в грязи ЦАХАЛ, они заодно оклеветали и его, так как трусом он все-таки не был и умер, сопротивляясь. Но кого интересуют такие мелочи?
То, что “Бе-целем” и пресса на весь Израиль ославили меня насильником и садистом, было неприятно, но, скажем так, ожидаемо. Гораздо труднее было выдержать удар оттуда, откуда я его не ожидал, и от людей, чьим мнением действительно дорожил. Ребята из Гиват Офиры смотрели на меня, как на чудака, который неизвестно зачем ищет себе на голову хлопот и неприятностей. Моральное обязательство вернуть своим каждого еврейского ребенка, который по глупости своей матери растет среди арабов, был им совершенно не очевиден. Они всерьез старались уверить меня, что потомство араба и еврейки, согласившейся произвести такое потомство, уже безнадежно испорчено. Что если Фейгины дети будут считаться моими и носить мою фамилию, то они ее неминуемо опозорят. Я, как дурак, ссылался на алаху, где ивритом по белому написано, что дети еврейки евреи и что пленных полагается выкупать. Потом перестал. На всех не угодишь. Как говорит Малка, я не купюра в сто шекелей, чтобы всем нравиться. В устах Малки это звучало очень смешно, потому что сама она как раз всем нравилась. Ну, или почти всем.
Через год этого кошмара суд, наконец, разрешил нам с Малкой усыновить (и, соответственно, удочерить) Шимона и Рахель. Наше правительство год обсуждало, заседало, изображало бурную деятельность, но приняло таки закон, по которому реинтеграция евреек и их детей назад в общество объявлялась государственной задачей, на это выделялись деньги, а к каждому еврейскому ребенку, живущему в арабской среде, прикреплялся израильский соцработник с широкими полномочиями. Левые стояли на ушах, арабские депутаты изображали оскорбленную невинность, а правые поддержали этот закон, главным образом чтобы не выглядеть совсем уж бесхребетными. Но он был принят, а в организацию “Яд ле-ахим”, которая уже десять лет как занималась подобными делами на общественных началах, хлынул поток писем. Желающих усыновить было во много раз больше, чем таких детей. У большинства из них матери, при всей своей глупости и недалекости, все-таки не сидели в тюрьме.
Словно не год, а много-много лет прошло с тех пор как Малка, услышав от меня о том, что у нас намечаются приемные дети, в очень нелицеприятных выражениях разъяснила мне, кто я, собственно, есть. Вместо нее, старой, бесплодной и некрасивой, я завел себе молодую любовницу. Эта мифическая любовница навещала меня на стройке и, оказывается, именно поэтому я запретил Малке там появляться. Каждое появление Малки на стройке производило фурор среди персонала, и весь остальной день они ни о чем другом не говорили. Именно поэтому я считал, что ей там не место, а люди должны работать, а не разглядывать мою жену и не обсуждать ее. Малка, как крутой кипяток, выплескивала мне на голову свои страхи и боль, но я терпел, потому что с меня корона не свалится, а в паре кто-то должен выдерживать. Мне никогда не нравился обычай приводить молодую жену, как только старая переставала рожать, как будто в человеке важны только определенные органы, и как только эти органы отказывают, человек теряет всякую ценность. Кого могут воспитать такие забитые униженные существа. Если мы будем перенимать у арабов их ценности, то скатимся в такое же дерьмо, а о месте форпоста цивилизации в регионе можно будет забыть. Но это все отвлеченные материи, а лично для меня то, что Малка меня в этом обвиняла, было не самым приятным моментом. Я дождался конца ее истерики и рассказал, как было дело. Словно лопнула натянутая струна ее ярости, она протянула ко мне руки, как, бывало, Риша в детстве, когда попадала в незнакомое место, а изо рта вырвались какие-то странные звуки, имевшие мало общего с человеческой речью, нечто среднее между хрипом и писком. “Уже простил”, − сказал я и шагнул к ней. Я не собираюсь манипулировать женой при помощи чувства вины, это удел слабых и ничтожных людей. Чувствуя, как под моей ладонью сотрясается узкая, как у девочки, спина, я снова и снова повторял себе: слава Богу, ей хотя бы не все равно, где я и с кем. Сколько пар живет так – каждый своей жизнью и никто никому не мешает. И не хотят люди понять, что любовь, как ни крути, это взаимные обязательства и добровольные ограничения. Ее спина прогнулась у меня под ладонью, маленькие горячие руки уцепились за шею.
− Просто… с тех пор как мы потеряли Офиру… ты так редко бывал дома. Даже если… если… бы они были в большей степени твои, чем мои… я бы все равно их любила. Но чем мы будем их кормить? Сколько народу можно вешать на тебя?
Ну, народ я как раз повесил на нее. Возьмем помощницу по хозяйству, чтобы еще одна пара рук в доме была. Неужели она решила остаться дома? Неужели окончилось наше противостояние? Просто, буднично и непостижимо. Все, что для этого потребовалось, это двое малышей, которым нужна мама. От запаха жасмина и морской воды, идущего от ее волос, перехватило дыхание.
− Не разрушай наш дом. Не уходи из него. У меня никогда не было дома ни с кем, только с тобой. Офира старалась, но я всегда помнил, кто жил в той комнате до меня. Никто кроме тебя не сможет меня ждать. Это и есть делать дом из четырех построенных стен. Не лишай меня этого, не забирай, Малка, прошу тебя…