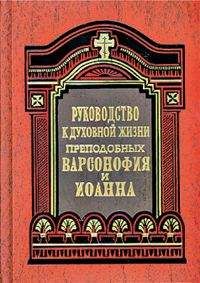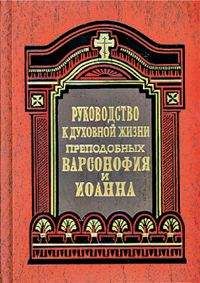– Толку с тебя нет никакого, – по-взрослому ворчит на наседку Таля. Трогает пальцем печку – тёплая. Ставит корзину на печь:
– Так-то вернее будет! Давайте, цыплятки, вылупляйтесь!
Через час с огорода возвращается мамушка:
– Ах, ты окаянная, всех цыплят загубила! Никто теперь не вылупится!
Таля весь вечер рыдает так горько, что её не решаются наказывать – сама себя наказала.
Зато через пару дней мамка гоняется за ней с веником. А дело было так. В обязанности Тали входит напоить поросят. Уходя из дому, Полина напоминает:
– Доча, напой скотинку!
«Сначала искупаюсь», – думает Таля.
Маленькие загорелые ступни отбивают дробь по горячим камушкам. Донское раскалённое солнце, тёплая речка, дети, гуси – всё намешано, и ты – бултых туда! Мокрые тугие косички бьют по плечам, капли воды дрожат на коже, а в них переливается радуга. Счастье, абсолютное счастье! Она так ясно, так отчётливо чувствует себя живой, сильной, такой же живой, как это солнце, и высокое голубое небо, и жаворонок, что заливается от радости бытия в вышине.
Два часа пролетают незаметно. Уставшая, возвращается домой, а навстречу летит дикий охрипший крик жаждущих поросят, уже обезвоженных, чуть не погибающих. Таля бросается их поить, а они всё орут возмущённо. Мамка возвращается и хватается за веник, гоняется за дочкой по двору:
– Что ж ты скотину-то чуть не загробила?!
Вечером деду:
– Диду, мамушка меня веником била!
– Что ты врёшь! Я тебя даже не догнала!
– Доченька, да разве ж можно дитё веником бить?!
И дед гладит правнучку по русой головке. Таля снова счастлива.
Вася, старший брат, с Талей почти не общается, у него свои друзья-казачата, он уже ходит с нагайкой, посещает «беседы», игры-тренировки, урочище. Они с сестрёнкой живут в разных мирах.
У Тали есть подружки-соседки, но все старше, чем она, кто на год, кто на два. И вот они идут в школу, которая устроена в доме обер-офицерской жены, Лукерьи Петровны Пышкиной, а Талю не берут: маленькая ещё, подрасти годок.
Лукерья Петровна – строгая, учит пятнадцать девочек Каменки азбуке, арифметике, Часослову, Псалтири. Она уже научила нескольких маленьких казачек читать и даже писать, а это для каменцев верх успеха в обучении.
День Таля просидела одна, второй, на третий день, с утра пораньше, тихонько собралась в школу. А что с собой взять? Нужно чем-то задобрить учительницу и подружек! Таля осторожно, потихоньку от мамки достаёт из-за печки большую холщовую сумку. Думает. Думает. Ура! Придумала!
Бежит в сад и наполняет сумку доверху спелыми жёлтыми грушами. С трудом тащит сумку за собой.
Заходит раньше всех в класс и всем входящим даёт подарок. Что ты, Таля, разве можно в школе есть груши?! А они такие сладкие, сочные, сладкий сок стекает по пальцам. Ах, и вкусные! Входит Лукерья Петровна – и Таля протягивает ей самую большую грушу. Учительница хмурит брови, но груша такая солнечная, такая сочная…
Урок сорван, но, к удивлению мамушки и деда, тётка Лукерья разрешает девочке приходить в школу, и Таля учится вместе с подружками читать и писать. Хорошо, когда у тебя растут в саду такие вкусные груши!
Жизнь Тали вся проникнута молитвой: молится мамушка, дед часто читает Псалтирь. Таля дремлет и, приоткрыв глаза сквозь сладкую дрёму, видит и слышит: уютно горит лампадка, а дедушка – неторопливо перед божницей наизусть:
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо, насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое…
И снова сладко спится Тале.
Помолится дед, выйдет на двор, обязательно навестит Топаза. Старый стал конь, а взял Фёдор его жеребёнком. С рук кормил, как за ребёнком ходил, вот и вырастил: не конь, а чудо! Драгоценность! Топаз и есть…
Были у Фёдора и другие кони: в четыре года посвятили его в казаки, посадили на лошадку, дали в руку шашку. Но таких, как Топаз, у него не было. Породистая голова с широким лбом, шерсть короткая, нежная, шелковистая, сам золотисто-рыжий, а грива и хвост чёрные.
А уж умный вырос! Преданней любой собаки, вернее верного товарища, никому, кроме хозяина, в руки не давался, понимал с полуслова, почти как человек. Укрытый в лесу или балке, ждал сигнала, отзывался на свист и стрелой летел к Фёдору. Ложился и вставал по команде, шёл за хозяином в огонь и воду, в сабельном бою кусал и лягал коня врага.
Ах, эти казачьи кони – неприхотливые в корме, умеющие выкапывать траву из-под снега, выносливые, подвижные, сильные, преданные, они не отходили от раненых или убитых хозяев на поле боя. В смертельной схватке, окружённые врагами, в свои последние минуты, казаки сбатовались – укладывали верных коней кругом и из-за них отстреливались.
Конь сопровождал казака всю жизнь: от детской мечты о собственном скакуне до дряхлого друга под седлом, что поведут за его гробом в старости.
Фёдор заходил в конюшню к Топазу, подкидывал сена, гладил умный широкий лоб. У Топаза были большие карие глаза с продолговатыми зрачками, и когда-то в них отражались облака, и солнце, и вся степь. Горьковатый степной воздух бил в лицо, под копытами дрожала земля, и звёзды ярко сверкали в небе, стоило чуть отойти от ночного костра. И ночь казалась долгой-долгой, а молодость бесконечной.
Фёдор дрожащёй рукой вытирал слезу, текущую по морде коня, и чувствовал, как у самого катится непрошеная влага по дряблым щекам: как быстро прошла жизнь!
В Каменке беда – взбесился Туман, собака старого Ефрема. Сначала не отходил от хозяина, лизал руки, лицо, потом стал беспокойным, отказался от еды, стал есть несъедобную дрянь, как будто сошёл с ума. И когда у Тумана начались спазмы и он не смог пить воду, а вместо хриплого лая завыл – Ефрем застрелил верного пса.
Затем заболела собака в соседнем с дядькой Ефремом дворе, ещё одна… Бешенство. Эпидемия собачья. Может, лиса дикая виновата, может, ещё какая живность, мало ли их по степи бегает… Если бешеные собаки покусают людей – смертей не оберёшься. Казаки затеяли отстрел.
Полкан, большая сильная овчарка, у деда Фёдора со двора не выходил – нет на нём заразы. Но против круга не пойдёшь – стрелять всех собак, значит, всех.
Таля любит умного Полкана, с ним ничего не страшно: у чужого не только угощения не примет – близко не подпустит. Со своими, особенно с детьми, Васей и Талей, ласков, как щенок, любит их – сил нет. Полкан учил Талю плавать: держишься за мощную шею и знаешь – друг не даст утонуть.
И вот сейчас его застрелят, и его большая умная добрая морда будет лежать, окровавленная, на камнях. Нет! Нельзя такого допустить! Таля ведёт Полкана на сеновал. Со всех дворов Каменки слышны выстрелы, визг и вой собак. Полкан мелко дрожит – он всё понимает. Таля долго и старательно закапывает собаку в сено, говорит как можно внушительней:
– Лежать! Лежать тихо, Полкаша! Иначе тебя застрелят! Понимаешь?
Из-под сена доносится приглушённое тихое ворчанье: то ли всё понял умный пёс, то ли просто поражён странным поведением девчушки.
Таля выбегает скорей наружу, бежит к дому. Вовремя. Вооружённые казаки уже заходят на двор, осматриваются: будка, большая миска.
– Здорово дневали, Фёдор Ильич!
– Слава Богу!
– А где ж собачка ваша?
Дед Фёдор удивлённо осматривается вокруг, переводит взгляд на Талю, потом, не торопясь, отвечает:
– Да кто знает, где его носит…
– Простите, хозяева, дозвольте поискать…
– Ищите… должно, в степь убёг… Прошли по двору, пошли к сараю.
А Полкан чужих всегда лаем встречал. Таля сжалась, сама в крохотный комочек превратилась, только сердце разбухло: стучит – кажется, на весь двор слышно. Вышли казаки с сеновала, попрощались.
Таля бросилась в сарай, а Полкан лежит, затаившись, и вышел, только когда расстрельщики ушли со двора. Так и остался жить верный пёс и много лет ещё служил своим хозяевам.
Как дед Фёдор завёл себе приятеля
– Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу Тебе им, соберут, отверзши Тебе руку, всяческая исполнятся благости, отвращшу же Тебе лице, возмятутся, отьимеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся…
Горит лампадка, освещая уютным зелёным светом горницу.
– Сие море великое и пространное, тамо гады, имже несть числа, животная малая с великими. Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время.
«Гады – это змеи, фу, какая гадость, – думает Таля. – Гадость – это от слова „гады“?»
Дед читает не торопясь, жмурится от удовольствия:
– Коль сладка гортани моему словеса Твоя; паче меда устом моим.
Сквозь дрёму: «Как это „паче меда“?» Вспоминает жёлтый, тягучий, сладкий мёд. Янтарная капля стекает, Таля открывает рот, сладко во рту, прозрачная струйка вьётся, вьётся, плетёт кружево вместе с негромкими словами деда, кружит, накрывает сладкий сон. Открывает глаза – солнце бьёт в окна, мамушка давно напекла пирогов. Таля потягивается, нежится… Солнце ласкает половицы крылечка, Таля стоит на тёплых половицах, любуется пышными цветами в палисаднике: всё цветёт, всё радуется жизни.