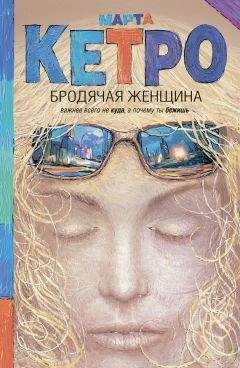Я точно знаю, что такое палево. Когда говоришь:
– Ой, ко мне человек придёт, надо шоколад убрать, а то подумает ещё…
– Что подумает?!
– Ну он же с фольгой!
…И по лицу собеседника понимаешь, что палево таки состоялось.
Вступила в неравный бой с креветками в «Старик и море». Чувствую, полягу. На их стороне восемь тарелочек с фалафелем, хумусом, тхиной, салатами и ещё пита. Я одна и в красном.
Нет, я должна это записать. На перекрестке Шенкин – Ротшильд толстенький хасид подозвал автобус (тот в самом деле повернул к нему нос, несколько перегородив дорогу) и немножечко потрепался с водителем, пока горел красный и ещё полминутки сверх того. И никто им даже не просигналил.
Чувствую себя бомжом на Маяковке: сижу на земле, слушаю арию шлюхи. Это на Ротшильде тутошние оперные поют «Травиату». Рядом танцует совершенно счастливый даун, по окончании гордо раскланивается под аплодисменты толпы.
Ну приплыли, чего уж. Только что в иерусалимской Ароме на Hillel сказала девочке «оно» про кофе, будто мало мне позора в жизни. Теперь придется её убить.
Подошла религиозная девушка и что-то прощебетала. Чего, говорю, мне бе русит! Думала, услышу лекцию о боге, но дева ответила по существу: «Пожалуйста, деньги!». Была очарована и заплатила.
Несколько дней ответственно формулировала впечатление от местного рислинга Barkan, наконец, сложилось. Он сухой, лёгкий, белый и невинный – точно, как чистый детский подгузник. Час, другой, третий, а потом что-то происходит, и ты В ГОВНО. Но это всё равно не злостное, а даже милое вговно.
На прощание мой прекрасный квартирный хозяин сказал: «Я гуглил тебя» и «Если ты написала здесь что-нибудь классное, пришли мне ссылку». Я написала, Джонатан, но ты же не читаешь по-русски.
У Линор Горалик есть рассказ «Панадол», состоящий из одной фразы: тогда он пошёл в спальню и перецеловал все её платья, одно за другим, но это тоже не помогло.
Хорошо бы написать историю «шкаф Джонатана» – вчера, когда я развешивала одежду, я много об этом думала. Джонатан сейчас в Таиланде, и у меня есть его славная квартира с белыми стенами, и его шкаф, в нём теперь висят семь моих платьев, а я хожу в синем махровом халате, в который он обычно одевает своих девочек. Мои платья слишком длинные для мужского шкафа, они заняли его весь, и я подумала, что это понятная иллюстрация женского вторжения. С небольшой сумкой ты приходишь к одиночке в его квадратную белую комнату и распыляешь там вещи, запахи, цветы, привычки, мягко корректируешь его правила, потихоньку заменяя их на свои. Вместе с тобой в его жизни появляется много цвета, и это поначалу совершенно прекрасно. И потом очень трудно себе объяснить, отчего он однажды собирает твои вещи в три чемодана и вызывает такси. Или сама вызываешь такси, а он потом перецеловывает все твои платья, если ты, конечно, их оставила.
Ещё недавно я серьёзно думала о том, возможны ли отношения без экспансии, территориальной или эмоциональной. Но постепенно поняла, что вопрос вообще не в этом. Всё сводится к обыкновенной любви, к свирепой пошлости о «тех единственных»: либо ты находишь человека, с которым взаимное врастание не будет подавляющим или разрушительным, либо нет. Тот, кто не нашёл, будет много говорить о невероятной роскоши одиночества. Но если его только поманить близостью, которая не душит, а дополняет, которая позволяет то скользить, не задевая, то совпадать полностью, о, как радостно он изменит взгляды на жизнь, как быстро соберёт свою небольшую сумку, как легко поверит, что можно занять «шкаф Джонатана» и наконец-то стать счастливым.
– Это что ещё за синяк? Тебя трахнул какой-то еврейчик?!
– А что ты имеешь против евреев?!
На самом деле я чиста, как маковая росинка, конечно же.
Однажды ночью я приехала из Иерусалима на Арлозоров (большое унылое пространство, заставленное автобусами и машинами) и пошла, крутя перед собой айпадик, чтобы выбраться на нужную улицу. И где-то на окраине парковки я услышала дудочку. Человек сидел на лавке и наигрывал нестерпимо печальную мелодию: концентрированное ночное одиночество, вокзал и бездомность.
Айпадик, наконец, сообразил, велел повернуться к нему спиной и уходить. Я пошла, и плотность звука стала ослабевать, но поздно, потому что отозвалась и зазвучала моя собственная тоска. Я шла, и мне пахли белые цветы и сирень; и город был пуст – мне, так что не найти даже чашки кофе. Начался день траура, но все кафешки закрылись именно для меня – город захлопнулся, как книга, а я выпала из него засушенным листом, запиской, фотографией, тенью памятью сном. Мне только дай потеряться – я слишком много слушаю мёртвых поэтов, чтобы смирно лежать там, где положили.
«Эль Аль» прислала рекламное поздравление: «Мы знаем, что вы там, где ваше сердце». Они таки умеют продавать, вот что я скажу. Сердце моё так и скачет до сих пор где-то между Кинг Джорж и площадью Бялик.
* * *
Однажды я провела в северном городе три дня, из которых лучше всего помню белый потолок, замерзший залив и предутреннюю мысль: «Я бы много плакала, будь у меня только одна жизнь».
И потом я долго пыталась представить, как проводят свои дни люди с единственной жизнью. Знать, например, что ты никогда не сменишь имени, лица и профессии. Всегда жить в одной и той же стране с одним и тем же человеком. Точно представлять, когда у тебя за окном начнётся зима, а когда лето, и быть обречённым на последовательное течение сезонов. У меня в этом году было несколько вёсен, и это не для того, чтобы соблюсти высокое качество потребления, просто неизбежного я боюсь больше, чем перемен. С тех пор как я осознала, что живу в государстве, которое всегда готово меня предать, мне с ним тяжело, но я могу уехать и временно о нём не думать. А что, если бы не могла, и эти новости были моей единственной реальностью.
И если бы у меня было ровно одно счастье, как бы я держалась за него, как бы плакала, расставаясь. Сейчас мне на плечи садятся разные птицы, и сама я сажусь на разные плечи, ветки и провода, и сколько бы ни было счастья здесь и сейчас, я могу себе позволить это потерять. Когда бы я пела иногда томным женским баритоном, это был бы романс «Две верных подруги, лёгкость и подлость» – потому что в свободе много вероломного, если ты не птица, а плечо, ветка или провод. Сама-то я связалась бы с человеком, который говорит: «Ты моя радость, но я могу позволить себе тебя потерять?» Да к чёрту пошёл такой человек, я считаю.
И как оно – быть тем, кто не может ничего потерять, ни земли, ни любви, ни жизни.
Не знаю, сколько ни думала, одно только понимаю – я бы много плакала тогда.
Первым делом мы купили подсвечник. Обошли все маленькие магазинчики вокруг главной площади посёлка Петалиди и в каждом ритуально что-нибудь приобрели – надо-не надо, а доля туристическая. Так вот, если считать от башенки с колоколом, которая в центре, на восьми часах была лавочка с поддельными духами и мусором, а среди прочего – он. Я, как вошла и увидела, остановилась и замолчала. Потом беззвучно сделала губами так: «Мня. Мня» – не будто хорошее что, а как если бы меня одолело несколько разных мыслей, но ни одну из них я не пожелала обнародовать (как, собственно, и было). Подсвечник выглядел как три больших стеклянных фаллоимитатора на металлической подставке, причём совершенно очевидно, что дизайнер ни о чём таком не думал, но подсознание его категорически подвело.
После большого внутреннего усилия отвернулась и осмотрела другое странное, честно пытаясь отогнать два-три видения, но ничего не вышло, поэтому я подёргала Диму за палец, сказала: «Это купи» и быстро отошла. Он тоже как-то очень молча взял, заплатил, и мы ушли.
В отеле поставили на комодик, я долго мялась, но к вечеру всё же спросила:
– Эта штука у тебя ничего не вызывает?
Дима ответил:
– Как не вызывать… – тут, правда, такое длинное многоточие, – да и с тобой всё понятно. А?
– Нет, – сказала я, – никуда мы его засовывать не будем. Забудь.
То был прелюд, развития не требующий. Но, как оказалось, это был и знак – поездка вышла непростой.
С самого начала я опасалась, что этот человек превратит мою жизнь в шапито, и много лет строго следила, чтобы ему не удалось. Но в последние годы расслабилась и внезапно оказалась на гастролях в Сауз Пелопоннесе с бродячим цирком.
Задача была один раз выступить на площади Пилоса вместе с актёрами, акробатами и фаерщиками, а потом неспешно откисать в пятизвёздочном отеле у Ионического моря. Это у Димы была такая задача, а у меня всё ещё проще – две недели отдыхать в качестве жены барабанщика. Если честно, я не сомневалась, что справлюсь.
Пока мы пять часов ехали из Афин по дороге, красивой до слёз, девочка из турагентства взахлёб рассказывала, как греки любят русских – буквально за мылом не нагнись, так любят. Как родных.