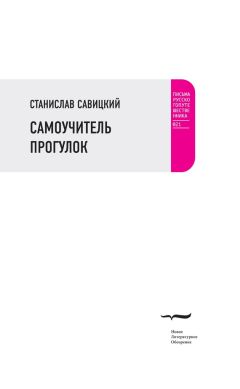Не стоит злоупотреблять вниманием окружающих
Одно из самых желанных удовольствий нашего времени – не смотреть несколько дней электронную почту. Сегодня вы не откроете свой почтовый ящик. Вам не надо будет десять раз отвечать: “got it, thanks”. Вам не придется читать дюжину деловых писем, смысл которых сгорает налету, не оставляя пепла. Вас не застигнут врасплох новые рассылки. Давняя знакомая, с которой вы годами старательно не поддерживали отношений, не пришлет вам письма с вопросом «Как дела?», отвечать на которое надо, но странное дело – «как дела?» спросить вежливо, а написать в ответ «ничего» будет почти хамством. Сегодня вас не пригласят на светский вечер, где от тоски расхочется даже выпить и вы будете тянуть жгут вежливой беседы с бокалом сока в руке, пока напряжение не достигнет предела и вы не скажете вдруг те несколько случайных слов, после которых с вами не будут здороваться несколько месяцев. Вас не попросят ради всего разумного, доброго и вечного об одолжении, с которым можно было бы с равным успехом обратиться к любому из ваших знакомых. И вы не удалите из спама дюжину выгодных предложений об увеличении члена.
Однако куда больше радости будет, если отключить мобильный телефон. На день, а то и больше.
Мне довелось быть знакомым с несколькими коллекционерами. У каждого из них была особая страсть к вещам. Один много лет собирал подпружные колокольчики. У него их было около пятисот. Все одинаковые по форме и немного отличающиеся в деталях. На многих по краю с наружной стороны была написана какая-нибудь глупость с длиннющей бородой типа «тише едешь, дальше будешь». Некоторые были с потугой на остроумие, а некоторые – с последней прямотой: «кого люблю, того е…». Зачем этому мужчине в расцвете лет столько колокольчиков – вопрос совершенно неуместный. Они должны были у него быть. И их должно было становиться все больше. Такое коллекционирование – это особенная жадность к жизни, жажда исчерпать ее неисчерпаемое многообразие. Такие люди часто собирают несколько разных коллекций – ради полноты бытия.
Есть и другие, которым хочется поставить мир на учет. Их коллекции никогда не могут быть полными, так как то, что они собирают, полностью каталогизировано и систематизировано. Почти все известно о предмете их страсти: что более распространено, какие вещи более редкие. Также известно, что есть два или три образца, раритеты, стоящие баснословных денег. След одного раритета потерян, найти его почти невозможно. Такие коллекционеры верят в предопределение и статистику. Среди них есть и те, кто никогда ничего не делает вовремя, и те, кому ничего не стоит пообещать и тут же забыть обещание, и просто безалаберные персонажи. Есть, разумеется, пунктуальные, есть педанты. Всем им свойственно быть убежденными в том, что существует непререкаемый порядок. И даже если случится невозможное и ты найдешь тот самый навеки утраченный раритет, чуда не произойдет. Ты заполнишь последнюю клеточку в таблице. И либо напьешься пьян – и заснешь глубоким веселым сном, либо выпьешь на ночь теплого молока – и погрузишься в сладкую, безмятежную дремоту. Таковы, например, некоторые коллекционеры-филателисты.
Удивительная страсть движет теми, кто собирает автографы не знаменитостей, но знакомых и приятелей, о которых хочется сохранить верное воспоминание или хотя бы сделать так, чтобы осталось напоминание, след, знак о встречах, разговорах и событиях, в которых довелось участвовать вместе. Такие люди дорожат каждым мгновением жизни, панически боясь не успеть прожить то, что дарит случай или дарует судьба. Эти люди хотят поглотить время, взять его как языка, приручить его. Они знают, что их усилия напрасны, и страшатся уходящего времени, страшатся забвения. Они ловят день, они счастливы в борьбе с ужасом беспамятства.
Между прочим, коллекционеры живописи или произведений искусства часто похожи на инвесторов, а не на тех, кто озадачен парадоксами вкуса. Среди покупающих искусство есть достаточно дельцов, которые руководствуются логикой аукционных каталогов. Общаться с ними занятно, только они и знают реальную цену искусству. Остальные на разные лады занимаются магией. Кто-то окружает себя картинами, переселяясь в мир воображаемых пейзажей, натюрмортов и абстрактных композиций. Кому-то жизнь немила без работ любимого художника. Увлечение перерастает в дружбу, в пожизненную привязанность. Был человек – стал эхо другого человека. Но не все так безнадежны. Некоторых хлебом не корми – дай посмотреть какого-нибудь безумца, красящего едкими красками на картоне сочную пузатую зелень регулярного парка. Этим и денег не надо, и коллекция ни к чему. Лишь бы не исчезали чудаки, лишь бы не прерывалась цепочка.
Сам я не способен коллекционировать что бы то ни было. Эта страсть мной не овладела. У меня есть разве что склонность к собиранию свистулек и маленьких фигурок. Как-то, приехав в Ростов Великий, возле монастыря я встретил мужичонку в подпитии, а с ним парня тоже навеселе. Расстелив на земле газету и расставив на ней глиняные фигурки, они мерно покачивались в благодушном хмелю. Там были птички, козлы, еще какое-то зверье. И была одутловатая головка с двумя дырками по бокам и разрезом на остром конце. Этот шершавый гомункулус свистел, как нежный похмельный ангел. С тех пор я стал искать в поездках фигурки и свистульки. Это и сувенир на память, и новый зверок на книжной полке. Они мне как друзья. Лежебока Альфонсо из Неаполя – лежит и в ус не дует. Италия – родина души. Каталонский крестьянин, зашедшийся в пляске, – фигурка из Перпиньяна – волшебный пендель бодрости. Астраханский ангелочек, прикрывающий крылом подставку для пасхального яйца, похож разом на Чингисхана и на Шиву. В тех краях в совхозах лотос растет. Там Индией смотрит Россия. Все милиционеры – дагестанцы.
Люблю я совку из оникса, с Енисея. Фарфоровую овечку – свечки тушить – из Екатеринбурга. Черный комок, свистящий как футбольный рефери, – его на стамбульском рынке мне продали как воробушка. Но лучший мой друг – из Ростова.
Нет, все-таки лучший мой друг – маленький войлочный зверок с белым брюшком и зеленой спинкой, прошитой штопкой цвета хаки. Возможно, это еж, но не факт, что это он. Я был как-то на вечеринке. Там все тянули фанты на подарки, которые сами сделали. Мне достался этот зверок, которого сшила милая застенчивая девушка с сухой рукой.
В нашем городе есть памятники, которые не похожи на тех, кого они изображают. Наш Достоевский едва узнаваем, а Екатерина II и вовсе женщина, личность которой еще предстоит установить. Таких скульптур у нас не одна и не две. Обычно на их постаментах написано следующее: «Этот памятник не похож на N, но это точно N. Приносим извинения за причиненные неудобства».
И никакой неловкости при этом нет, как сказала одна великая поэтесса, очень боявшаяся бомбежек. Памятник ей в образе Сивиллы Кумской, установленный недалеко от площади, где стоит памятник ей же, смотрящий с печалью Ярославны на старую тюрьму, что на другом берегу реки, вносит элемент разнообразия в художественный ландшафт нашего сонного города. Без них мы были бы в большей степени разобщены. Ведь мы знаем всех этих героев и видных деятелей еще по школьным экскурсиям, на которые нас водили всем классом. Как раз тогда стелам в честь военных побед и скульптурам отцов-основателей были даны их подлинно народные имена «Стамеска» и «Бивис и Бадхед». Памятники сплачивают горожан, хотя не всегда тем, что имел в виду в своей работе автор или заказавший ее городской муниципалитет.
Некоторые памятники становятся собеседниками на всю жизнь.
К бабушке с детства я ходил через проходные дворы. Потом надо было срезать наискосок сквер, повернуть за угол, пройти мимо грязно-серого квадратного в разрезе столба, на котором высилась черная башка с всклокоченной гривой и густой бородой, – и ты на месте. Это был бюст то ли Георгия Димитрова, то ли Димитра Благоева, кого-то из пламенных. Башка была с хабитусом: нос торчком, глаза вылупившиеся и черные как смоль патлы. Голова стала мне как родная. В плохом настроении я проходил мимо нее и говорил: «Мдаа». Настроение получше – говорил себе: «Ты на себя-то посмотри». Пьяным я обязательно с ней здоровался, норовил подпрыгнуть и достать кончиками пальцев бороду. Как-то шел мимо в глубокой задумчивости и сказал ей: «Молчишь, аспид?»
По привычке дела идут в разные стороны
Когда я родился, новый год начинался первого сентября, в День знаний, время ни осенью, ни весной не переводили, а наш ефимок стоил на турухтанской бирже половину систерция. Потом новый год стал на Пасху, как в давние времена, летоисчисление повели от Сотворения мира, переименовали на старинный манер месяцы и вернули старые названия городам и улицам. Наш ефимок тогда стоил 30 000, и нам приходилось покупать его у самих себя. Потом с календарем все стало нормально и время переводили весной и осенью, только ефимок взлетел до 100 000. Денег стало очень много, и все такие большие. Сейчас деньги обычные и в остальном, в общем и целом, преобладает здравый смысл. Только иногда природа берет свое – и весной могут время перевести, а осенью уже забудут. Это спасает нашу жизнь от размеренности и монотонности, что большой плюс, так как размеренность противопоказана тем, кто с детства привык к тому, что действительность постоянно преподносит сюрпризы. Боюсь, мало кто из тех, кому довелось пережить все эти перемены, способен смириться даже с допущением, что отныне все останется незыблемым. Не скукой и не тоской веет от подобной перспективы, но кошмаром безвременья. Мы носим в себе бомбу с разладившимся часовым механизмом, он то тикает, то не тикает, встряхнешь – дзынькнет и на душе становится чисто и светло.