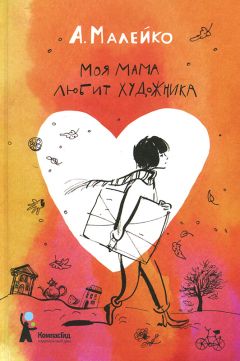Клюшкин сорвал очки и снова принялся протирать линзы платочком.
– Как вы можете это объяснить? – он вперился в пространство в моем направлении, потом надел очки и стал смотреть немного левее, туда, где я сидел на самом деле.
– У меня были проблемы. – сказал я.
– Какие?
– Ну, там, работа…
– Это не основание… – он вдруг остыл и даже вяло махнул рукой, – Что вы намерены делать?
– Взять академ…
– Причина?
– У меня травма – разрыв мениска, нужна операция.
– Ну, – обрадовался упитанный кандидат наук, которого студенты за упитанность и жизнерадостность называли Чупа-чупсом, – Если у него есть повод для академа, то чего мы тут вообще сидим?
– Позвольте, – серьезно поморщился на меня Коровенок, – Я хотел бы спросить, не стыдно ли вам в сложившейся ситуации?
Я посмотрел на Коровенка с чувством внутреннего сожаления.
– Нет, – сказал я, – Не стыдно.
– Но элементарное чувство ответственности… – сказал Коровенок.
И он говорил еще много серьезных и правильных вещей, от которых всем становилось скучно и слегка неудобно, будто в их присутствии осуждали онанизм. Минут через двадцать он кончил. А через пару дней Клюшкин подписал мое заявление об академическом отпуске.
Больницы меня угнетали с детства. Трудно придумать что-либо менее жизнеутверждающее. Один больничный запах чего стоит. Я думаю, дело не в хлорке, которую добавляют в воду, когда моют полы. И даже не в смешивающихся запахах лекарств. Скопище больных человеческих тел – вот, чем пахнет в больницах.
И когда я вошел в это серое здание, с высокими темными потолками и облупленными бледно-голубыми стенами, я подумал:
– Подходящее место, чтобы умереть.
И я представил, что уже никогда не выйду отсюда, что через несколько дней моя жизнь кончится, и эти стены – весь мой мир, все, что осталось.
Я не знаю, почему я так подумал. Я тут же улыбнулся собственным мыслям, но улыбка вышла нехорошая. Мне было неуютно здесь.
В больницу я шел со своей сестрой. Она переживала, что я ложусь на операцию, и, так как была старше меня на восемь лет, хотела позаботиться обо мне. Она испекла пирожков с картошкой, купила пару яблок и завернула все это в полиэтиленовый пакетик.
Мы встретились рано утром на автобусной остановке, как договаривались. Она отдала мне пакетик с пирожками, поежилась от холода в своем старом пальто с песцовым воротником, и сказала:
– Пойдем.
Но тут подъехал автобус. Он был пустой, потому что утром на окраину никто не едет. А больница находилась на самом краю города. За нею ползли до горизонта сизые в предрассветных сумерках снежные поля, и уныло шагали в даль решетчатые колонны высоковольтных опор.
Мы проехали всего две остановки и успели выслушать жалобу пожилой кондукторши, в линялой рыжей кожанке, на тяжесть кондукторского труда. Вышли на конечной.
В приемном покое нас усадили на жесткую кушетку и велели ждать.
Два упитанных мужика в белых халатах долго совещались, раздев меня до трусов, ощупывая колено и заставляя приседать.
– Ну, да, по-видимому, мениск… – сказал наконец один, который был погрустнее, с проседью в волосах, – Надо оперировать.
– Ты сегодня завтракал? – спросил меня другой, румяный и жизнерадостный, с аккуратными щеткообразными усами.
– Так ты его, что, сегодня хочешь?… – седоватый сделал удивленное лицо, – Анализы ведь надо сделать.
– Блин, ну тогда давай на завтра, – румяный сожалеюще взмахнул руками, – А так сегодня поработать хотел…
– Завтра дежурный день, – в голосе седоватого послышались угрюмые нотки, – Привезут тебе снова пазл из пятнадцати шахтеров, а у тебя на столе этот, со своей коленкой…
Их дискуссия закончилась тем, что мне дали баночку из-под майонеза и велели сдать мочу дежурной медсестре. Никогда не любил эту процедуру. В ней заключено какое-то тихое издевательство. Я должен преподносить незнакомой даме еще теплую банку собственной мочи… тут что-то неправильно.
Потом та же медсестра, что приняла от меня банку с мочой, молодая унылая девушка, отвела меня в палату и сказала, что сейчас принесет белье и подушку. Я сел на кровать. В палате находились четверо человек.
На самой большой кровати, весь в повязках, окруженный противовесами, лежал худой носатый старик и пессимистично разглядывал потолок. Из его ноги, сквозь бинты, торчали стальные спицы, слега согнувшиеся под тяжестью тела. На самой маленькой кровати, у входа, помещался мелкий мужичок лет сорока, в синем спортивном костюме нараспашку, с перевязанной рукой и страшными шрамами на горле и голом животе. На соседней с ним койке сидел улыбающийся круглолицый здоровяк с костылями в руках. А рядом со мной, через проход, на смятой простыне и продавленном сером матрасе, маялся пузатый пожилой дядька. Его нога от бедра до стопы была замотана толстым слоем бинта, а сквозь бинт сочилась кровь и что-то желтое. Его трясло, как в лихорадке. Я поздоровался с ним. Он посмотрел на меня блестящими широко раскрытыми глазами.
– А у тебя что? – спросил здоровяк с костылями.
У него были коричневые тени вокруг глаз, будто он долго-долго не спал.
– Разрыв мениска, это в колене, – сказал я.
– Ключица? – переспросил маленький мужичок в спортивном костюме.
– Мениск у него, – раздраженно ответил здоровяк, – Не слышал, что ли? Колено!
– А че ты орешь-то? – возмутился мужичок.
– А че ты сегодня весь день… – здоровяк не закончил фразу, улыбнулся и сказал мне весело, – А у меня тоже. Мениск.
Облезлые стены, высокий потолок, запах немытых тел, кровавые бинты делали воздух в палате похожим на густой зловонный суп. Мне хотелось поскорее уйти, но медсестра никак не несла белье.
– Когда операция? – спросил здоровяк.
– Послезавтра, – сказал я.
– А чего ты тут сидишь? – удивился он, – Иди домой.
– Сказали белье получить, – объяснил я.
– А кто принести должен? – спросил он, – Эта, что тебя привела? У-у-у, от нее дождешься. Мы сейчас другую позовем.
Он привстал на костылях, держа одну ногу на весу, тяжело вздохнул и крикнул солидным начальническим басом:
– Люба!!!
В двери заглянуло немолодое и явно испитое женское лицо.
– Люб, принеси пацану бельишко, – попросил он.
– Ладно, – сказала Люба, улыбаясь, – Подушку одну или две?
На следующий день я со всеми познакомился. Мужика с забинтованной ногой больше не трясло, он вяло матерился и собирался с силами, чтобы дойти до туалета. Для этого он взял костыли здоровяка и пытался привстать на кровати. Его звали Геннадием, он был жертвой автокатастрофы на междугородней трассе. Как выяснилось позже, он лежал в больнице уже четыре месяца и сильно хотел домой – варить вечерами украинский борщ, а днем руководить фирмой по изготовлению поролоновых валиков.
Здоровяк с тенями вокруг глаз оказался Витей, лейтенантом милиции. Он порвал мениск на дне рожденья друга, когда пьяные товарищи устроили свалку на газоне, под окнами пятиэтажки, а он оказался в самом низу свалки. Он пил еще два дня. А на третий вдруг понял, как сильно болит его колено.
Дед Роман, разглядывающий потолок, тоже был из больничных долгожителей. Его раздробленная автомобильными колесами нога третий месяц не хотела заживать, потому что он был старый и к тому же алкоголик. В больнице он, конечно, не пил. Но организм, истощенный вековым пьянством, отказывался регенерировать.
Мелкий мужичок Миша работал всю жизнь сантехником. Больше он о себе ничего не сказал – только махнул рукой и отвел в сторону синие, похожие на собачьи, глаза. И у всех при виде этого жеста сделалось понимающее выражение лица.
В палате, как раз у моего изголовья, стоял маленький телевизор. По нему постоянно шло какое-нибудь идиотское шоу. Больничные обитатели знали нюансы всех этих шоу и обсуждали их во время рекламных блоков. Я участия в обсуждении не принимал, пытался читать книгу, «Возвращение» Ремарка. Дядя Гена тоже читал, и ему, судя по всему, не мешал телевизор. На его тумбочке высилась целая стопка книжек, на туманно-синих корешках которых читалось: «Андре Нортон. Шедевры мировой фантастики». Читал он шедевры яростно, с треском переворачивая страницы и поводя головой из стороны в сторону. Иногда он недоверчиво хмыкал, обводил палату взором, вобравшим в себя завихрения далеких галактик, морщился от боли в раздробленном колене, и снова нырял в космическую глубину.
Вечером, когда телевизор все-таки умолк, окна, обращенные в глухую степь, стали черными зеркалами, и воцарилась вязкая тишина, пришла моя сестра. Она принесла еще горячую тушеную курицу в банке из-под майонеза. И расстроилась, когда я сказал, что мне нельзя есть, потому что завтра утром назначена операция. Она спросила, страшно ли мне. Я сказал, что просто немного волнуюсь. Мы посидели, поговорили о том, что операция пройдет легко. И она ушла, поцеловав меня в щеку. Я проводил взглядом ее нездоровую полную фигуру с чувством усталой жалости. Сестра сама болела, но пыталась ухаживать за мной.