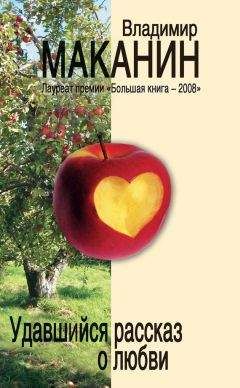– Иди к бабе. Время уже.
– Не мешай.
Валька басит:
– Иди, иди. А то Иван Семеныч бабу твою отобьет.
– Не мешай.
– А ты не порть счеты, дурень безногий.
– Вот я тя щас костыликом…
К одиннадцати часам, почти к полудню, пацаны, младшие братишки и с ними вся мелкота, двинулись на Бугры. Нечесаные, обгоревшие, с облупленными носами, они расселись стайками на земле. Были там две березы, гнутые, как Кручиниха, – на них тоже влезли и расселись.
– Во! Во, пылюга! – кричали они сверху.
– Э, балда, – более старшие пацаны презрительно выбранили их снизу. Они и раньше заметили курящуюся по дальней дороге степную пыль, но легка была пыль – одна машина. И уж никак не колонна, не трактора, не комбайны.
– А за лесом они не проедут?
Справа от Бугров был лесок, тот, что с лесником, и кругозор ограничивался.
– Не.
– А позапрошлый помнишь? Той дорогой и проехали.
– Так то не к нам.
– А все равно б посмотреть.
Пацаны сидели, как бы дело делали, кто-то бегал домой, возвращался с куском хлеба, подхватив два-три сигаретных бычка по дороге, – и опять сидели. За час или за два нет-нет и катила вдалеке маленькая, как коробок, машина. Сначала хвост пыли, а затем выкатывался, обозначался впереди пыли и сам коробок, с колесами и еле видным пятнышком, лицом водителя. Но машина не сворачивала, мимо, и пацаны провожали ее опаленными до мяса носами.
Прекратилось гудящее пение дедов, и совсем тихо стало. Не лаяли собаки, жарко. Туберкулезный мальчик, сын дачницы, покричал, поплакал и настоял, чтоб его вывезли в колясочке на крыльцо в нережимное для него время. Он сидел, тоже уставился пламенным личиком в ту сторону, ждал, смотрел с крыльца (как с возвышения) и будто бы тоже был сейчас на Буграх с ребятами.
Деды петь перестали – двое ушли за Черным Петухом, а третий хоть продолжал, но напевал очень тихо:
За дальней за сторонушкой,
где солдатиком я был…
Этот дедок стар был, слепнул, уже много лет видел он все хуже и хуже, однако добирался и до дальней дороги, сидел на плоском камне с вениками для проезжающих. Здесь его вконец издразнивали пацаны.
– Дедка, деду-у-уня, – просили девичьими голосами озорники, – дай семечек маленько, в кусты с тобой сходим.
– У кусты, миленькие, у кусты, – дрожал дед голосом, щупал свои веники и мешочек с семечками. – А никого ль близко нету?
– Никого, дедунь. Так дай нам семок…
Черный Петух был самый обычный, черный с красным, вот только гребень у него был не как у всех, а черный. И слушок пополз, что в последние похороны этот самый Черный Петух опять появился на кладбище. И хоть в приметы не верили, им, старикам, виднее, хороший это знак или нет, и пусть смеются, – они, старики, ради большого дела уж как-нибудь переживут лишнюю насмешку. Вот так и пошли два деда за Черным Петухом. Еще петушонком его кто-то выкинул, и бедняга всю свою петушиную жизнь бродил по задворкам и огородам, тряс несчастливым гребнем, прося у людей хлеба и кур, и два-три раза в день спасался от близкой смерти – бегал от гнавших его людей с совсем уже переродившимся в дикое кукареканьем. И ведь подвальные крысы не съели его смолоду, и кобчик не взял, вот такой он и появлялся вдруг.
– Это он птицеферму организовать хочет, – скромно и тихо шутил бригадир.
Одни этого петуха брать не хотели, другие ждали, когда свой издохнет или состарится, – и в суп петух с черным гребнем так и не попал. Пацаны обычно с криками гоняли его и, видно, загнали на кладбище, вот и бродил он пару дней меж могилок, радуясь спокойному месту. Это вызвало разговоры: «Он, сволочь, и курицу мнет, будто это не курица, а черт-те что!..» – говорили бабы. Примерно в пятом часу нервного дня, не в силах унять своего волнения, старики и прикончили петуха камнями. Не так-то просто оказалось это сделать.
Они возвращались с кладбища довольные, шли по деревне, разговаривали:
– Конечно, он тут ни при чем, а пусть не пугает, дьяволюга черный.
– Все как-то легче будет, – поддакивал второй старик.
– А шустер был!
Петух и правда был шустер. И вот еще что: не черный он оказался. Лежал прибитый, в перьях по ветру, в крови, а злосчастный гребень был лишь чуть темнее обычного. Может быть, выцвел, а может, слинял от долгой и одинокой грусти.
Вечер приближался тихий, настороженный, даже стадо пришло притихшее. Лишь изредка слышалась негромкая, стиснутая коровья жалоба, будто коровы тоже жили и мучились ожиданием. Деды ушли с улицы. Пацаны не бегали как обычно. А в восьмом часу вечера не выдержал, сорвался Иван Семеныч. Он давно не бывал на уборочной и вообще непривычен был к ожиданию. Сначала с громким спором он полез к председателю Груздю, Груздь ушел, смолчал, а Иван Семеныч что-то кричал ему вдогонку. Дальше еще хуже. Он, конечно, кричал не избе и не крыльцу Катерины, но стоял он под Катериниными окнами, но стоял у ее избы, но люди выглядывали на шум, и получалась картина (деревенский скандал).
– Заперлась?.. Сейчас я ей нехорош! Отвечай: нехорош?.. Да я и сам, может, не пойду, если впустишь!
Случайность, вот так оно и бывает, нервы не выдержали. Конечно, может, Катерина его и не пустила, а может, ее просто в избе не было, у Наталки была или еще к кому зашла. Во всяком случае, через час она его пустила, и он стал жить у нее на виду всей деревни. Как в городе, взял да переехал. Но это через час, а сейчас он сидел на ее крылечке и выкрикивал:
– Никому не нужен. Ну, ник-кому не нужен!
Вспышка его длилась минут десять, затем еще тише стало, избы задремали – ночь. Тихо в хлевах, в сарайках, и последние ночные шаги в избах, и люди думали, что вот и Иван Семеныч занервничал, и, может, это уже последняя черта, и, значит, недолго ждать и скоро приедут. Люди переворачивались во сне с боку на бок, и сквозь старые срубы изб от одного к другому тянулась долгая ночная мысль о том, что кто ее знает, Катерину, строгую да скрытную, кто ее знает? – может, и правда какая-то глубокая яма под платьем у одинокой бабы и тянет всякого, а ведь ни виду, ни стати в плечах, ни бедовости, – о чем говорить-то с ней?.. Ночь ползла мягко, машины гудели дальней дорогой, все мимо и мимо, – а может, в Катерине есть что-то особое бабское, говорят, бывает такое, Иван-то Семеныч был всем понятен, а вот она с чего спятила? – об этом тоже можно было подумать. О чем угодно можно было думать, думать и хоть немного отвлечься от мысли, что хлеб стоит, много хлеба, и хорошо, что еще не осыпается.
* * *
Груздь не просто так спасовал на улице перед Иван Семенычем: в уборочную такой мужик, как Иван Семеныч, много значил, и надо ли его сердить? На умеющих работать людей Груздь был хищным и очень внимательным. Стоило только подумать, что вот согласился остаться на уборочную Иван Семеныч, лет ему уже за сорок, годы, ну куда он денется? – стоило ему только подумать об этом, как он уже глотал слюну и присматривал для Иван Семеныча местечко. Что касается их баловства с Катериной Буковцевой, то Груздю наплевать, да черт с ними, небось не полиняют.
Украдкой от жены Груздь встал среди ночи, бродил по избе белой тенью, пробрался в подштанниках к тайничку и выпил ровно одну маленькую кружечку «для заснуть». Но заснуть не смог, оделся, вышел и дошагал до избы Рыжухина.
– Открой, – сказал Груздь.
– Чего стучишь? Кто?
– Я это.
– Ночь уже. Спать иди.
– А ты-то спишь? Открой, говорю.
Рыжухин впустил, хотя и спал. Груздь посидел немного, покалякал о том о сем и ушел. Он вышел далеко, аж к самой дороге, и присел на плоский камень. Послушал тишину, еще послушал, затем усмехнулся – ночью не ездят. И эка же радость быть председателем такой вот деревеньки: того и гляди хлеб осыпется… Колхозец числился за Лукьяновской МТС, комбайны все до единого убирали сейчас в Лукьяновке – большое и богатое село. А Бережковцам и даже Новоселкам сказали, что «летучих» пришлют. Который год «летучие» убирают, но что делать, если своих людей нет, а Лукьяновка почти в ста километрах… Он еще раз подумал об Иван Семеныче, Ивана-то он с пацанства знал, надо бы зацапать его, надо, ишь вольная птичка!.. А он, Груздев, после войны и оглянуться не успел, как четырех детишек наплодил, тут уж тяни, вкалывай. Жаль, девки одни, все четверо девки, бессеменный, что ли, или, может, баба барахлит…
Он вгляделся в темноту, окликнул:
– Ты, Петьк?
– Я. А-а, дядь Василий… Чего это сидим?
– Как в Лукьяновке? Скоро ль уберете?
– Какой скоро, только начали. Ох и хлеба там, дядь Василий. Комбайн аж давится…
– Чего ж бродяжишь, сукин сын? Чего не работаешь?
Парень пошмыгал носом:
– Да я сегодня в столбик махонький врезался, прямо хедером, половину зубьев смяло.
– Не смяло, а смял, потому что ты смял, понял?
– Ну смял, – скромненько согласился парень, топтался с ноги на ногу и шмыгал носом.
Груздь сплюнул: вот они все!.. Подрастает парень – и в Лукьяновку, там и работает, там и женится, там и остается.
– Когда ж в родном селе убирать хлеб будете?