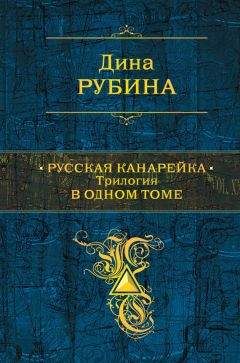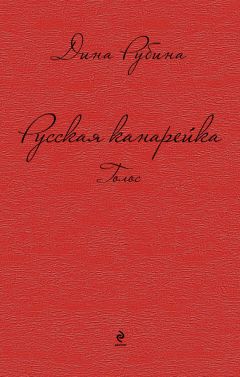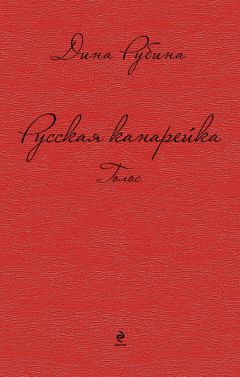– Да, – сказала она после некоторой паузы. И твердо повторила: – Да. Именно так.
Потом долго стояла у парапета набережной, глядя, как по жаркой синеве яркими бабочками скользят паруса яхт, жадно глотала текучий соленый бриз и, не обращая ни малейшего внимания на голоногую и голоплечую толпу, опасливо ее огибавшую, тихонько скулила:
– Где ты?! Где ты… Где ты-и-и-и…
* * *
Филиппа Гишара она разыскала довольно быстро. В вещах Леона оказалась записная книжка, практически чистая, но за кожаной обложкой хранилась целая пачка визитных карточек: музыкальный, журналистский и артистический мир Парижа, вплоть до разных «Опера Онлайн», «Опера для всех» и «Общества любителей оперы».
Ну, и кое-что еще: визитка модного дизайнера (странно: Леон всегда за пять минут покупал себе шмотки, правда, в дорогих магазинах), модного парикмахера (тем более странно: он чуть ли не постоянно сам брил себе голову) и цветная россыпь ресторанных карточек, какие обычно сопровождают поданный счет. Дико предположить, что Леон, с его блестящей памятью, не помнил адреса своего импресарио Филиппа Гишара… или адреса бессменного аккомпаниатора Роберта Бермана. Тем не менее обе визитки присутствовали.
Все это требовало обдумывания: она уже понимала, что Леон никогда ничего не делал «просто так».
В сотый, что ли, раз достала она из кармана джинсов его письмо – опять потрепанное: уже дважды распечатывала копию. Знала его наизусть: «Супец, ну и здорова же ты дрыхнуть…» – но извлекала и перечитывала едва ли не ежедневно, словно за то время, пока она спала, там могла добавиться строчка-другая. Вновь пробежала глазами указания, все, что связано с отъездом из Портофино, и – понятно, не соваться в Париж (а с чего бы это?), и – ясно, действовать, как привыкла (но зачем, если ныне ни Гюнтера, ни Фридриха нет в живых?). Банковская карточка – она и вправду держала Айю на плаву; «поезжай к отцу» – поеду, когда совсем сдамся… Но вот эта идиотская приписка насчет соджу – к чему она? В скупом и очень важном последнем письме он приписывает ничего не значащее, игривое:
«И помни: в Лондоне нас ждет целая бутыль собственного соджу, на которую никто, кроме нас, покуситься не смеет!»
Никто, кроме нас, покуситься не смеет? А вот это мы проверим…
Назавтра к вечеру она уже выходила из поезда на перрон вокзала Сент-Панкрас.
Куда бы ее ни заносило, она по старой привычке предпочитала не оставаться ночевать, даже если к ночи падала с ног от усталости. Ехала в аэропорт или на вокзал, покупала билет на ближайший рейс – и засыпала в кресле, обморочно откинув голову, под стук колес или гул самолетных двигателей.
Легче всего на душе бывало утром, на выходе из вагона или салона самолета. Всегда казалось: сегодня обязательно узнаю что-то важное, сегодня он даст о себе знать… И пускалась по адресам, намеченным в списке. Так, она наведалась к Шарлотте и Марку. Вокруг замка бушевал зеленый хаос листвы, хотя травы на газоне для ослика по-прежнему не хватало, и случайные гости по-прежнему скармливали ему оставшийся после завтрака шоколад.
В благостно летнем Кембридже по берегам реки цвета темного пива все так же расстилались луга (лютики, дикая герань, белые метелки тмина), над которыми духовито пахло диким чесноком, зудели комары и летали встревоженные чибисы.
Айя решилась даже побеспокоить старые кальсоны, наверняка висящие над чугунной плитой, но рассеянный хозяин дома ее попросту не узнал, хотя вполне приветливо отвечал на вопросы:
– Леон Этингер? Да-да, и что же? Он так и не ответил на наше предложение…
Никто понятия не имел, никто не видел, никто не получал никакой вести.
– Вероятно, он на гастролях… в Америке? В Австралии? В Новой Зеландии? Он ведь много концертирует…
При виде ее исхудалого лица, нервно жестикулирующих рук, всклокоченной головы люди недоумевали и отводили глаза – возможно, подозревая, что несчастный Леон находится в бегах по окончании неудачной интрижки с этой ободранной кошкой.
К ночи день угасал, и город, куда она мчалась с такой надеждой, город со всеми его веселыми, занятыми, озабоченными, влюбленными, энергичными людьми становился омерзительным и отстойным…
* * *
Вечерний летний Лондон был прекрасен: нежно-зеленое яблочное небо медленно таяло над возбужденной вечнотекучей толпой. В этот день от Мраморной арки до Вестминстерского аббатства гулял традиционный гей-парад – Pride London, и разукрашенные, полуголые, в цветных париках группки его участников все еще попадались на улицах, и на них все еще пялились обалделые туристы. На Трафальгарской площади как раз в эти часы закрывал и развозил свои палатки кулинарный фестиваль, но духовой оркестр еще наяривал как заведенный, сообщая энергичный ритм увлеченной драке двух девиц с плечами и спинами, радужными от наколок.
Лондон – краснокирпичный, красноавтобусный, с красными телефонными будками – по-прежнему являл собой грандиозный театр – ее, Айи, любимый театр, хранилище бесконечных рассказов… У нее даже что-то дрогнуло внутри: не пробыть ли здесь дня два-три, в том уютном пансионе, где они останавливались с Леоном?
Но тут же в памяти возникла и все собой заслонила зловещая и одновременно покорная фигура Чедрика, всегда внушавшая ей ужас: где он сейчас? К кому пристроился? И – боже ты мой – при ком теперь существует Большая Берта?
Айя не занялась еще разбором этого своего рундука, еще не подпускала себя к мыслям о гибели Фридриха и Елены, инстинктивно чувствуя невыносимую тяжесть этого груза, понимая, что не может, не должна сейчас нагружать свой хрупкий ялик, несущийся к другой цели.
Любые тревожные, страшные и смутные мысли она яростно отметала, тотчас вызывая в воображении заветный мускулистый мешочек, в котором зреет их с Леоном жемчужина. Это и было средоточие ее бродячей жизни: удобная для перевозки котомка с драгоценностью, еще незаметная окружающим, таскать пока легко, совсем легко; а позже… позже она найдет Леона. Все остальные мысли были всего лишь размытым фоном, на котором больно сияла ее ослепительная беда: исчезновение Леона.
Они и всплывали, эти мысли, как нечто постороннее; собственно, Айя сразу же их отгоняла, как отгоняют услышанные на улице разговоры случайных прохожих: все это чужое, и так далеко, и не имеет отношения к твоей непомерной заботе – например, к тягучей истоме внизу живота, где требовательно и нежно всплескивает хвостом золотая рыбка.
От вокзала Сент-Панкрас она села на голубую линию метро и с одной пересадкой минут за восемь добралась до Шарлотт-стрит – рукой подать.
Будто вчера только они искали, где «перехватить по-быстрому», а попали в чудесный ресторанчик с факиром-возжигателем супов («Как твой супец?» «Мировецкий!»), где на веки вечные она обзавелась семейной кличкой.
Время было вечернее, летнее, людное… ресторан распирало от посетителей, во внутреннем дворике сизой пеленой висел сигаретный дым и разносился гогот; барная стойка обсижена, как голубятня. Это хорошо, в планы Айи не входило привлекать к себе внимание. Когда некая пара, рассчитавшись, сползла с высоких табуретов, Айя протиснулась к стойке и, уперев грудь в надраенный медный поручень, а взгляд – в бармена, громко и четко произнесла имя в такт колотящемуся сердцу. Он обернулся к полке за спиной, пробежал глазами ряд бутылей и пожал плечами:
– Все выпито, мисс. Что вам предложить?
– Кем?! – крикнула она, сверля его исступленными глазами.
Он вновь пожал плечами и уже открывал-наливал-подтирал, принимал и выдавал заказы, крутил вентиль крана, подхватывал и брякал на стойку… совершал двадцать действий в секунду. Все это ей было знакомо по собственной прошлой жизни.
– Кем выпито?! – умоляюще крикнула она. Слева ее подпихивала уже набравшаяся девица, справа какой-то тип стучал по стойке кружкой, пытаясь привлечь внимание бармена. Айя плыла в оглушительной немоте многолюдства, пытаясь выпрыгнуть из нее, вновь завладеть вниманием парня. – Вы можете вспомнить, кто это был?
– Наверняка тот, чье имя написано на бутыли, мисс…
Он был поразительно вежлив, этот азиат, в этой требовательной толпе; все-таки они замечательно воспитаны и очень выдержанны.
Ей дико захотелось выпить, как в старые добрые времена: хорошую пинту коричневого портера… Но она попросила бокал пепси-колы, отошла, села за неудобный и потому незанятый столик чуть ли не на ступеньке у дверей и сидела там до закрытия. Наконец посетители стали рассеиваться… Опустел дворик, и небольшое помещение ресторана будто раздалось, стало свободней – люди стремились наружу, в теплую оживленную ночь, в следующий бар, паб, ночное варьете… Вот последняя компания, громко поддевая друг друга, вывалилась из дверей под крики одной из девиц: «Джейми, ухожу в отрыв!»…