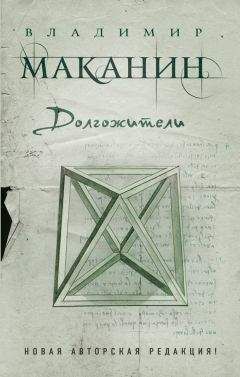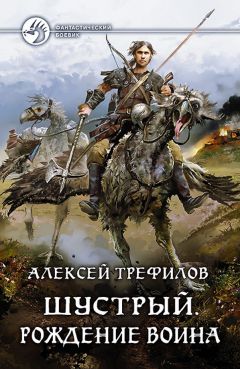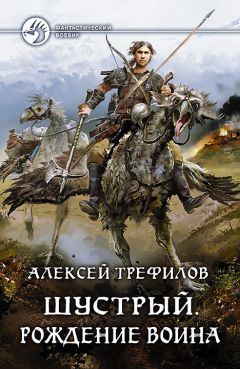Игнатьев услышал, конечно, как от нее пахнуло вином.
Сын не спал, – надо отдать должное, пацан уже давно и первым почувствовал надвигающиеся перемены, что было бы похоже на мистику, если бы не было так буднично и бытово.
– Мам, – раздался из темной комнаты его голос.
– Что, родной?
– Посиди со мной. И песню хочу.
Сима вдруг раздражилась:
– Маленький ты? Тебе что – пять годиков?
– Мам!
– И не проси. Спи!
Надо думать, она и впрямь утомилась. И была полна впечатлений. К тому же Сима не хотела, вероятно, дышать на сына (пацан любил целоваться) вином и сигаретами. Она колебалась недолго, – выступив из света прихожей в полутьму, она прикрыла дверь его комнаты, и он, обиженный и надутый, теперь там засыпал.
– Мы поговорим, – сдержанно повторил ей Игнатьев. – Я не лягу спать, пока мы не поговорим…
– Хочу вымыться. – Она рвалась в ванную.
Он было шагнул – она тут же и легко отстранила его:
– Ты дашь мне помыться?
За ее спиной обычным быстрым бликом сверкнуло зеркало ванной комнаты и еще одним бликом эмаль ванны – Игнатьев успел сказать вслед:
– И все же мы сегодня поговорим.
– Обязательно! – Она усмехнулась из-за двери.
Они прожили пятнадцать лет и, казалось, уже неудержимо приближались к зениту спокойной семейной жизни, в которой нет и не будет перемен. Еще немного, и можно начинать стареть – так казалось. Пятнадцать лет домоседка жена прибегала с работы домой и не хотела, хлопотливая, ничего, кроме мужа, сына и телевизора, – неудивительно и понятно, что Игнатьев приобрел за эти годы среди прочего привычку подсмеиваться над страдающими (недовольными семьей) мужьями. Отчасти он им, страдающим, даже не верил.
Слышен был шум и плеск воды в ванной. Жена там напевала:
Быстрая река-а,
голый камешек вокру-уг…
Именно эту песню настырно просил сын, и теперь, отказав ему, она, может быть, по инерции напевала ее для себя. Песенка была из унылых. Но в голосе Симы слышалось остаточное веселье, не слишком даже припрятанное. Она поскользнулась и весело вскрикнула. Стоя под душем в ванной, она удержала равновесие и опять напевала. Она и песню переделала в нечто мило-дешевое и беспечное – в куплеты.
– Ну так что, – натужно спросил он за чаем, – мужчины стали нравиться? Или водочка?
– Еще не разобралась.
Он пожал плечами:
– Хотелось бы знать.
За эти две недели он пробовал начинать с ней и так и этак, но вечерний разговор, растекаясь, не получался – либо же быстро сходил на свару, на обоюдные выкрики, ничего не проясняющие и ничего не дающие. Так и шло. Так перебрасывалось с вечера на вечер, реже – с ночи на ночь. Ответ ее, если говорить о словах конкретных, сводился к одному и тому же: у них на работе подобралась веселая компания.
– И что же вы делаете?
– Выпиваем, танцуем – о боже, что делают мужики и бабы, когда оказываются вместе!
– Они разное делают.
– И мы разное.
– Недобрала в юности, а?
Сима, не ответив впрямую, теперь лгала. Игнатьев закипал, и не только потому, что женщины, если их слушать, лгут плохо. Оправдывалась Сима и словами, и гибкой, готовой к поворотам интонацией:
– …Да что же тут такого – жила, жила, жила и ничего вокруг не видела. Людей не знала. Жизни не знала… У нас и раньше после работы ходили в театр, в кино, развлекались – одна я сторонилась.
Она сделала вид, что собирается плакать.
– Ну хочется мне, милый… ну что же тут такого?
Если не первый день, ложь чувствуется сразу и перехватывается в любом слове, необязательно в уязвимом. Но он лишь повторил:
– И верно: что ж тут такого, если хочется.
Сима пошла в комнату:
– И не сердись, спать хочу – с ног валюсь.
Как и вчера, как и позавчера, он не двинулся за ней следом. Сказав самому себе, что ведь ночь, он прошел в свою комнату – там был диванчик. Игнатьев в споре как-то вдруг обмяк. И шаги его заметно обмякли. В свое время Игнатьев не сторонился ни прямого баловства, ни романов, да и сейчас при шальном случае не упускал сладкого, но, в общем, был он человек, уже набегавшийся в жизни, напробовавшийся и теперь живший ровно и спокойно, даже внешне. У него была семья, был сын, была жена, у него был свой дом, было свое кресло и была своя чашка для чая. У него была даже своя страстишка из рядовых и домашних – собирание альбомов живописи.
Он, проходя к себе, услышал голос Витьки:
– Пап.
Игнатьев сунул голову в темный проем двери и сказал суровым шепотом:
– Заткнись, спи…
Жена и сын спали – Игнатьев не спал. Он мирно бродил по оставшемуся ему пространству квартиры, как бы выделенному во время общего сна для ночных его шагов, – по комнате и кухне, – нет-нет и курил. У него возникло знакомое желание что-то сказать. Он проходил мимо овального зеркала в прихожей и повторил, но уж по-иному:
– Это жизнь…
Он, хотя и совестясь, вгляделся в собственное отражение: нет ли морщин на лице? Ему казалось, что морщины могли бы в эти дни появиться, хотя бы наметиться, однако морщин не было. Игнатьев знал, что человек он сложившийся – немножко суетный и немножко позер. (Из тех, кому кажется, что за его поведением и жизнью вроде как наблюдают со стороны пристрастные зрители.) И вот морщин не оказалось – это точно. Ни морщин, ни боли в сердце, хотя бы и редкой…
Он думал. Если жена загуляла и изменяет, в нас возникает определенная эмоция.
Если жена больна, в нас тоже возникает определенная эмоция. Так мы задуманы, так слеплены.
Но если, к примеру, жена изменяет и жена больна, мы не знаем, как быть и какую эмоцию выдать. Мы в растерянности… На миг Игнатьеву стало обидно, что он человек обыкновенный и в силу обыкновенности своей не умеет вместить разом. (Хотя бы не принять близко, с болью, если уж не вместить.) Ему стало обидно, что не дал бог ему, Игнатьеву, больше, чем всем прочим, – дал сколько дал, вот и все.
У зеркала постояв и вполне насмотревшись, он погасил свет, – сбросивши домашние шлепанцы, чтобы не шаркать, он осторожно, чуть ли не на цыпочках, вошел в комнату, где спала жена. Он подошел ближе – к постели. Глаза очень быстро привыкли к темноте. Сима, заметно похудевшая, спала, он же хотел сказать что-то доброе и, может быть, неслыханно нежное, но не отыскал слов. Он протянул руку, чтобы коснуться, но боялся, что разбудит.
Даже помыслить о том, что вокруг сидящие сослуживцы начнут сочувствовать или, скажем, шушукаться, что у их молодого начальничка загуляла жена, было как-то нелепо, – Игнатьев был на виду. Однако и молчать было тягостно. Некоторые из них были уже для него людьми свойскими и не первый уж год. Как бы между прочим Игнатьев спросил у Тульцева, сплетая с чем-то нехитрым: бывает ли, что женщина, обыкновенная, скромная, вдруг и резко меняется характером по причине, например, болезни?
– С женщиной все бывает, – засмеялся инфарктник Тульцев.
– Глубокая мысль.
И больше уже Игнатьев не спрашивал.
Позвонила Марина. Она, торопливая, сама раздобыла его телефон:
– …Игнатьев, слушай меня внимательно – ты слушаешь, Сережа? – Голос ее частил. – Я же работаю недалеко, две улицы перейти. Захожу я к ним в контору, тут же встречаю Симу в коридоре: ах-ах, сколько лет, сколько зим! «А мы, говорит, в театр идем…» Я говорю: «А можно я с вами?» Короче: напросилась я в их компанию. Компания, я тебе сразу скажу, невысокого класса… Я поверчусь с ними вечер и присмотрюсь, узнаю, как и что, – хочешь?
– Валяй, – сказал он безразлично.
Марина сказала еще, с извинением в голосе:
– И не сердись на меня за вчерашнее: я глупостей наговорила.
– Да ладно.
– Не сердись. Сгоряча получилось.
– Ладно.
Он повесил трубку.
А выкурив сигарету, позвонил на работу жене, – к телефону долго не шли, потом взяла трубку басовитая женщина. Надо думать, она была из веселой их компании.
– …Сима собирает сейчас деньги на театр.
– Ч-черт. Она у вас там главная, что ли?
– Ну да.
Женщина у телефона была настроена агрессивно:
– А вы что – против?.. В кои-то веки появился среди нас истинно веселый человек, и вот ее уже одергивают и укорачивают. Сима у нас душа компании. Поверьте: мы все счастливы, что Сима среди нас…
Взяла трубку жена. Игнатьев спросил, как она себя чувствует.
– Неплохо.
– Рад за тебя. Когда это у вас опять театр – завтра?
– Сегодня.
– И после театра опять полуночничать.
– Возможно.
– С винцом?
– Кто же без винца сидит вечером? – Жена засмеялась, и там, в окружении жены, ее слова подхватили радостными криками и хохотом.
Сын смотрел телевизор. Игнатьев присел рядом, приобнял его за плечо и тоже посмотрел фильм.
Но в десять вечера он, конечно, вышел в улицу. Светила луна. Снег поскрипывал под ногами. Игнатьев обошел дом дважды и еще дважды, а потом наконец увидел ее – женщина-врач с лыжами на плече выходила из подъезда. Она жила в соседнем доме, в девятиэтажном, районный их врач.