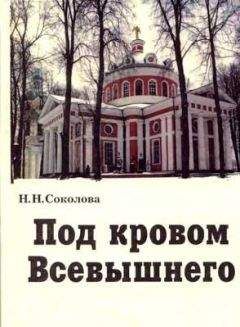Отец про Колины проводы в армию прослышал от случайно повстречавшейся с ним до этого на Чистых Прудах Нины – жены Пантелеймона, но сам все равно не явился, а прислал вместо себя младшего своего брата Семена – которого он недавно «вызвал» в Москву и устроил по «острому лимиту» работать в милицию постовым.
Семен сразу же получил заранее забронированное место в милицейском общежитии, ни дня не поночевав в новой семье своего «беспутного» брата.
Работа захватила Семушку полностью и целиком, а в оборот их всех, деревенщину колхозную необученную, взяли с места в карьер – сначала, в первую голову, прям на вокзале, построили кое – как и спросили, кто умеет «ходить за лошадями» – и Семен, как это ни странно – один! – радостно шагнул вперед.
Лошадей Семен Иванович не только любил и уважал, – он понимал их, а главное, умел их лечить. В мать пошел, наверное.
Матушка его, урожденная Кирбитова, бабка Веры по отцовской линии – и тоже Пелагея, как и Верина мать, – была дочерью купчишки мелкого сельского, умела «зубы заговаривать» – нашептывала что-то – и у любого болящего из деревни снимала этим шептанием своим запросто – и на длительное время – зубную боль и маяту.
Отец у Семушки и у старшенького Степушки – не люб оказался тестю своему – купчишке скопидомному – ну никак.
Потому что: «Больно уж вольно дышать хотел!» – приговаривал старик.
Тестюшка потом как прозвал его, так и осталось с тех пор за зятем это семейное прозвище – «Иванушка-дурачок».
Был их папашка родный Ваня «офеней» – простым разносчиком товаров разных мелких – и ненужных, но для баб да для девок сельских привлекательных, ходил по деревням со своим лотком на шее, выставлял товар прямо у церквей или на базарных площадях.
Инда и в шею гоняли, особо от соборов богатых.
И на дорогах, размоченных дождем до масла – хорош был и мягок чернозем Тамбовщины! – грабили его не раз и слава Богу, что не вовсе убивали, а только били почем зря да товар с лотком отымали.
А Ванюша как оклемается – так все и посмеивается, дурачок.
Видать, мозги-то последние отшибло ему, а так что рот-то растягивать без толку?
Умный бы был – жил бы в городу, уж давно по делу своему торговому в выученики к какому-нибудь купцу богатому пошел, в ножки бы бухнулся за науку – за подсказку, как людей половчее обманывать да обсчитывать.
А как же?
Не обманешь – не продашь! Таков закон древний с изначалу века.
Брал Ваня у будущего своего тестя «мелкими кучками», да под залог, на продажу «вразнос», товар не шибко-то ходовой: гребенки, платки. Бисер рассыпной; яйца и ложки деревянные расписные; вручную девками зимними долгими вечерами на посиделках расшитые тем же бисером покупным кисеты – уже, однако, и с махорочкой в кулечке малом газетном внутрях.
Газетки-то обрывочки тоже можно было немедля, сразу в ход пускать – сворачивать из них «козью ножку», да и закуривать!
А чтобы прикурить-то самому – вот тут же тебе и кремень, и трут, аль кресало.
А хошь – и вовсе спичек «самовспыльных» коробок купи-тка – чиркнул раз об сухую подметку – «вона и зажглася!»
И дешево – и сердито, то бишь весело – все удобственные вещи сразу на лотке на шее у парня – перед прохожими! Только знай, налетай да раскошеливайся, народ!
А сам-то нет-нет, да и поглядывай, как смеркаться начнет – чтобы успеть до надежного дому, где точно не обворуют, да еще и накормят-напоят, иной раз и задарма – потому и любил Ваня ночевать по пути своему веселому у молодых солдаток или вдовиц – вот красота!
Потом приходил в дом «поставленника» своего – Кирбитова-купца, отдавал ему денежку с проданного, себе лишь на неделю веселой жизни – да на рубашонку новую приобресть – оставалось, тут же брал у того же Кирбитова ткани на рубаху, расплачивался, остаток «чистый» денежек – на гульбу – в малый кошелечек за пазуху прятал.
Шел в дом – отдавать материю девкам Кирбитова, большим рукодельницам да мастерицам, – рубаху шить.
Все дни три дочери у папаши в деле были, вышивали, шили, золотошвейничали, с их работы прекрасной и кисеты-то, и кошельки бисерные люди в очередь заказывали.
А другой раз и от батюшки сельского собора заказ поступит – хоругвь золотом расшитую точно по старинному, изветшавшему уже лику, подновить, облачение новое вышивкой да жемчугом мелким речным украсить…
Вот однажды вошел Ванька в светелку, где девушки на лавках под окнами как обычно с работами сидели, поздоровался.
Протянул уж было старой их няньке сверток с матерьялом, – договор у них с купцом такой был, что за «шитво» денег не платить! – и вдруг подняла на него глаза свои огромные, ясно-зеленые, младшенькая – Полюшка. И улыбнулась…
И когда только вырасти девушка успела – ведь зимой еще как пацанка малаявозле дома в снегу возилась, с собаками дворовыми с визгом играла …
И все – пропал Ванек!
В ходку свою новую по деревням ни у одной из баб приветных не посмел остановиться – а вдруг огласят?
Пришел к «купцу-грознОму отцу» на поклон – с просьбой отдать ему, офене честнОму Ивану Васильевичу, в жены Пелагеюшку Кирбитову.
Отец ответил ему таково:
– «Энтой осенью выдаю замуж сразу всех троих – погодки они, без матери росли, сам воспитал, как умел».
И добавил:
– «На свадьбах – сыкономлю! На приданом – нет! А за приданое мое ставлю условие такое одно – и решительное: женихи все после венчания в моем дому жить остаются! Места – полно! А дочери мои – как шили-вышивали, да мне готовое сдавали – так и продолжать станут. А кому не по нраву такое мое родительское повеление – ступай прочь!»
Вот что тут будешь делать? Как пошел Ваня в «приймаки» – так в них и остался.
В девятьсот пятом, как уж везде «пошаливать» народ стал, родился у него с Пелагеей первенец – Степан, красивый, смышленый мальчик – радость от него и тепло так и били волной, все его любили и баловали, особенно дед.
А через десять лет, «в пятнадцатом годе», пожгли купчишку сельского – свои же, видать, односельчане.
Кинулись всей семьей добро спасать, – темной ночью шумел-горел пожар-то, – да куда уж там – полыхнуло на пол-села. Ничего не осталось.
Ванька – офеня с полгода уж как на фронте воевал с немцами.
Да и сгинул – и не было о нем более ни слуху, ни духу.
Дед вскорости помер. От удара.
Сестры схоронили отца да и разъехались по родным мужей своих.
Средняя по дороге от тифа померла, была бездетная.
Старшая – Ульяна – аж до Москвы самой докатила, муж ее там, с фронта вернувшись, – газом немецким потравленный, израненный да контуженный, – пожарником устроился при самом Большом Театре.
А Пелагея на сносях уже вторым своим, запоздалым, была – Семеном, куда тут ехать.
Так и родила – недоношенного, у старушки одной – бабки повивальной – в избе ее махонькой.
Мыкалась потом одна с двумя детьми – ох, и трудно было.
По чужим людям бродила – ни у кого долго старалась не задерживаться.
Вот пришла побираться в один хуторок, присела на край дороги – маленького покормить, большому дала из котомки корку, велела ему из ручья воды принести в мятой кружке, да и самому попить как следует.
Тут видит – идет по дороге тетка, толстая, да справная, в легких сапожках сафьянной кожи, а сама, не хуже Пелагеи – нищенки, тоже узел большой, – тяжелый, видать, – на палке через плечо несет – уморилась, да рядом присела.
Посмотрела баба эта, как дитя грудь сосет – и вдруг горько так заплакала, ни слова не говоря. Стала платочком утираться – дорогим, по уголкам красиво гладью вышитым.
Встрепенулась тут молодая мать – узнала свою работу на платке! Да и сама себе заплакала. Разревелся тогда и мальчонка грудной – уж «до кучи».
Тетка вдруг плакать перестала, утерла мокрое лицо, сказала:
– «Ну, здравствуйте вам! А ты с чего это тож соплями, прости Господи, разбрюзла? А?»
– «Здоровы будьте, тетенька! А плачу я, что платочек давнишней моей работы у Вас увидела. Муж мой такие-то продавать ходил, Иван-офеня. А теперь на фронт его забрали. А батя погорел, бездомная я с двумя мальчонками осталась, вот и горе!»
Тетка так и впилась глазами в кормящую молодую мать.
– «Так ты, значит, Ванюшкина жена? Знавала я его, раскрасавца. Ночевал он у меня в дому иной раз – пока не женился…
Да ты же, девушка моя, мастерица большая! Пойдем ко мне в дом, вон, на краю леса изба белеет за высоким забором, пойдем, милая, не бойся! Одна я давно уж тут живу, а теперь ты со мной вместе – и с ребятишками – поживешь, поможешь по хозяйству.
Где второй-то твой бегает? А, вон, вижу, от ручья идет – воду несет. Хороший это знак – полную кружку аль ведро воды навстречь увидеть!
Иди-иди сюда, миленький! Ох, как ты на батю-то своего похож – да и на мамку-красавицу тоже!
Ну, теперь жить будем все вместе, как сумеем!»
Тетку звали Матрена, а короче – тетя Мотя. Была она старой солдаткой, бездетной и одинокой, получала за давно уж – на Балканах еще – убитого мужа небольшую пенсию в уездном городке. На то и жила.