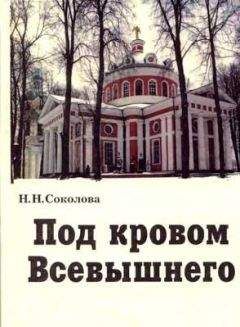Иди-иди сюда, миленький! Ох, как ты на батю-то своего похож – да и на мамку-красавицу тоже!
Ну, теперь жить будем все вместе, как сумеем!»
Тетку звали Матрена, а короче – тетя Мотя. Была она старой солдаткой, бездетной и одинокой, получала за давно уж – на Балканах еще – убитого мужа небольшую пенсию в уездном городке. На то и жила.
Ванюшку-офеню любила крепко. Да пришлось забыть, когда оженился.
Матрена знала и умела собирать и сушить травы лесные, луговые, речные да полевые.
Люди считали ее знахаркой, но в церковь она ходила всегда исправно, просила у батюшки «заступления грехов», – потому Мотю и не сторонились, а лекарства ее из травяных отваров завсегда помогали.
Так и стали жить – бедновато, да неплохо, дружно, главное.
Тетя Мотя приносила Пелагее из уездного городишки запас ниток, канители золотой и бисера, а из деревень – работу ручную, заказанную.
Плату за готовое брала продуктами – яйцами, хлебом, картошкой, другими овощами, редко – курицей или уткой, один раз – даже гусем жирным, тяжелым.
Просила людей отдавать птицу живьем – потому что оставляла у себя «на хозяйство», прикупала потом им парочку – и неслись куры, плодились гуси и утки, уходя на ручей и приходя сами домой большими семьями, а уж дом-то по ночам охраняли – лучше любой собаки: так начинали гоготать, кричать и крякать в загончиках своих в сенцах, что чертям тошно бы стало!
Когда случился переворот – и не заметили бы, если бы новые люди не стали церковь разбивать да иконы и хоругви выбрасывать и жечь. Попа увезли в ссылку.
Понесли тут в избушку на край леса к обеим одиноким женщинам бабы деревенские спасенные иконы да утварь церковную, и даже – руками Пелагеи-мастерицы расшитые одежды священнослужителей.
Матрена сначала отказывалась все это прятать – очень страшно было.
А потом придумали обе вот что: вся изба Матрены разделена была ситцевыми занавесками на веревках как раз на четыре угла – по числу «жителей».
Повесили женщины на все стены избы иконы плотными рядами – протянули от угла до угла еще по одной длинной занавеске – да и прикрыли все три стены, кроме той, на которой окна были.
Кто там увидит, внутри-то, за прежними четырьмя занавесками, что на стенках вместо обоев – тоже тряпки, да, может, для тепла?
Другую утварь церковную спрятали в сундук и перетащили его в отдельно вырытый за домом, к лесу поближе, сухой холодный погреб для картошки и всяких запасов. Завалили сундук пустыми мешками драными, кусками рогожи, сверху поставили кадушку с солеными огурцами – ешь – не хочу!
Да и забыли про «крамолу».
И жить стали очень спокойно – никто их не трогал, прямо на диво!
Видно, иконки те охраняли домик солдатки и отпугивали «нечистую силу».
Степан успел до октября еще, до революции, закончить с «гербовым листком» о завершении учебы ЦПШ, то есть, церковно-приходскую школу, – «три класса и коридор» – как шутила над ним потом его московская супружница – Полина, сама-то и вовсе почти неграмотная!
Писал он красиво и чисто, и дело это понимал и любил. К нему частенько обращались односельчане за помощью – и так он «подсоблял» матери и «тете» выживать – и выхаживать болезненного и хиловатого младшего братишку.
А в 22-м году, в семнадцать лет, когда в уезде окончательно установилась власть Советов, за ним приехали двое конных красноармейцев и забрали – велели ехать с ними, сразу дав ему лошадь, которую привели с собой в поводу.
Поскакали обратно в город втроем.
По дороге ему объяснили, что им позарез нужен грамотный полковой писарь – и Степан, недолго думая, стал служить в конной дивизии при комиссаре и вскоре вступил там в партию, получив от боевого командира рекомендацию.
Но гражданская война подходила к концу, и Степану, вырвавшемуся из тихой деревни, захотелось после боевой, но краткой своей службы, жизни городской – и обустроенной.
Тут он и вспомнил про тетку свою родную, Ульяну, которая жила в Москве.
Попросил начальство выдать ему служебную характеристику и направление на военную учебу в этот город.
Накоротке заехал домой – попрощаться с матерью, братом и тетей Матреной.
И – уехал завоевывать Москву. Завоевал, став паспортистом в милиции. Более он ни разу в родные места не возвращался.
А младший брат Семен, когда взрослым уже подростком вернулся от брата Степана и его жены Полины из Москвы, «из нянек», так и продолжал жить с матерью и с чужой теткой в старой избенке, преодолевая все трудности деревенской нелегкой доли.
Наступил страшный голод и раскулачивание, насильное объединение крестьян в «коллективные хозяйства» с отбиранием домашнего скота в обобществленное стадо, – за которым, в общем-то, некому было присматривать. И Семен нанялся на работу в колхоз – сначала просто в пастухи, а потом – в конюхи, из особенной своей страстной привязанности к лошадям – которые не могут, как люди, вырвать тебя с твоей любовью из сердца – и забыть навсегда!
Семушка всегда был слаб здоровьем – покашливал, часто жаловался, что болит голова.
Когда попал на работу в конюшню – стало ему гораздо лучше, и даже сам дух конских «яблок», которые убирал он из каждого стойла, шел ему на пользу.
Но в армию его служить не взяли – из-за сильной общей истощенности организма, почти дистрофии, и туберкулезных затемнений в легких.
В самом уж начале войны с фашистами пересмотрели его «медицинские показатели» – и переосвидетельствовали, очень удивляясь, куда же делись туберкулезные пятна?
А дистрофию преодолеть – да и попросту не подохнуть с голодухи – помог ему лошадиный корм, который заваривал он коням и ел, давясь слезами, сам.
Служил Семен Иванович до самой Победы в фуражном взводе одного из конных полков знаменитой Конармии, тем же конюхом, водовозом и говночистом, как подтрунивали над безответным, едва грамотным, солдатиком из деревни некоторые «городские» – и не верили ему, что он пять лет жил аж в самой столице нашей Родины – Москве, и видел своими глазами и Красную Площадь, и Мавзолей Ленина…
И ранен был неудачливый Семен в неприличное место – наклонился низко с метлой – и ударило его сильно в самую что ни на есть пятую тощую точку; остался внутри ягодицы как ложкой вычерпнутый огромный белый шрам с пустотой.
Повезло, однако! Не согнулся бы в дугу – снайпер германский может, и башку бы прострелил.
И вообще, считал Семушка, выздоравливая, – жизнь его хорошо протекает, жаловаться не на что. Лечат бесплатно, живет на всем готовом, к обеду даже масла сливочного на кусок белого хлеба кладут!
Взял после войны – да и вернулся обратно в деревню. К мамаше старенькой – тетушка – то уж Матренушка долго жить приказала.
А там – что началось! Чума какая-то, ей же Богу! Бабы, после войны одинокие, да на мужичью ласку голодные, стаями за ним бегать начали – да и девки сельские на выданье тож не отставали! Продыху и проходу от них Семену не было!
Да начинали-то хитрО – с матушки.
Подкатывались к ней и просили – о помощи, одной – крышу поправить, другой крыльцо кособокое поднять, а более всего просили плугом землю огородную слежалую, на коровах четыре лета кой-как паханную, перепахать на лошади – единственной на всю деревню, только у Семена, – привез он ее из армии как подарок его колхозу за его же верную службу!
Мать всем все обещала – надеялась, что хоть какая-нибудь сынка-тихоню «распечатает», да может, и замуж пойдет? И внучков народит?
И по вечерам Семену как по списку доклады делала: «К кому табе нынче, к кому завтря пойтить!»
Семен шел помогать – а делать-то что?
И даже колхозная председательша попросила лично ей «помочи оказать» – на сеновал на чердак ее слазить, да остатки старого трухлявого сена вниз вилами покидать – а то боязно ей, что сама «с такой верхотуры сверзится и разобьется, ебеныть, нах… вдребезги – кому тады хозяйством управлять?»
Вот уж и попользовалась нахальная бабища на сеновале на этом Семеновой «немощью» – аж до «упадка всех сил» довела горемыку! Да хуже того: еще и всем остальным колхозницам, кто уж больно интересовался, как они там с сеном-то на чердаке, управились ли? – в картинках расписала, руками разводя чуть не на метр в стороны, каков он мужчина-то, тихоня-то наш – ловок оказался!
Тут бабы очередь нарушать начали – и хватать мужика уж прямо за штаны на улице стали, к себе в гости зазывая!
Ругался на них на всех Семен именно в такой последовательности:
– «Черт, дура, шалава! Шалава, дура, черт!» – и отбегал в сторонку, от греха подалее.
Так и торкался безотказный Семен в каждый вдовий дом, нигде, однако, особо надолго не задерживаясь – аж домой все реже приходить начал.
И вот заявился один раз очень поздно вечером – а мамка-то померла! Лежит в уголку на кроватке своей – и больше уж не дышит.
Брату отписал – в Москву, но Степан на похороны не успевал – но и на поминки не приехал.