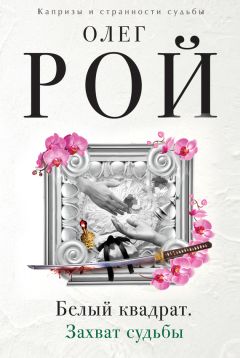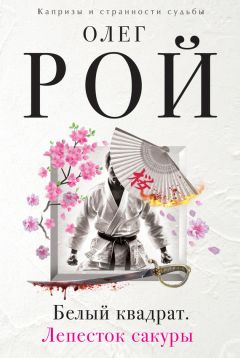Обычно серьезная Варя, как ребенок, захлопала в ладоши:
– Давайте!
– Тогда сейчас доедим, и бегите прихорашивайтесь! – улыбнулся ей Спиридонов.
– А я уже доела, – обрадованно доложила Варя. – Ага, побегу, а вы кушайте. Я только вам котлетку вот с рисом еще положу и компоту налью…
– Этак я растолстею, – пробурчал Спиридонов. Но оба знали, что с его образом жизни полнота ему не грозит.
* * *
Поев, Виктор Афанасьевич в ожидании Вари занял привычное место в эркере – покурить и обдумать, как он начнет разговор. Откровенно говоря, он не знал, с чего начать. Было очень важно не обидеть Варю, не сделать ей больно. И важно, чтобы она жила полноценной жизнью, не тратя ее на глупости вроде пустой влюбленности в пожилого бобыля.
«Как бы это обставить поделикатнее, – упорно мозговал Спиридонов, – ну не должна молодая девчонка-бутончик сохнуть по старику, не должна! Я приложу все усилия и отважу ее от себя…» И тут, почти как наяву, услышал мысленно голос Фудзиюки: «Хотите рассмешить Будду, расскажите ему о своих планах…»
Вспомнив учителя, Спиридонов открыл ящик стоящего здесь же столика, за которым он обычно сидел, когда курил. Столик он нашел во дворе неподалеку, возле полуразрушенного ветхого дома. Даже странно, что этот предмет былой роскоши не пустили в период разрухи на топливо – небольшой овальный стол на высоких ножках с выдвижным ящичком был совершенно не нужен в хозяйстве. Судя по клеткам на столешнице, столик предназначался для игры в шахматы, но ни самих фигур, ни футляра для них в ящичке не было, хотя нашлась пара потертых керенок и несколько дореволюционных монет.
Теперь Спиридонов хранил в ящичке шахматного стола заветную коробочку для бенто, старый блокнотик с «интервью» Ощепкова и еще кое-что. Книжицу в обложке из странного серого материала – это была акулья кожа, но Спиридонов об этом не подозревал – ему передал Ощепков, когда приехал в Москву. Уж как она к нему попала, Спиридонов не имел представления. Ему было лишь известно, что как агент Ощепков был провален, причем не по своей вине. Виновато было его начальство, не сумевшее обеспечить ему должное конспиративное прикрытие, так что в Новосибирске он был опознан японским резидентом – работником посольства, когда в красноармейской форме со своими учениками зашел после тренировки в ресторан. Тем не менее какие-то связи с японской резидентурой он, вероятно, сохранил, поскольку по возвращении в Москву передал ему эту самую обещанную книжицу.
Дневник Фудзиюки Токицукадзе.
Дневник, как и предполагал Спиридонов, был написан на языке, придуманном польским окулистом, – на эсперанто. Удивительный язык, который, по идее, должен был быть интуитивно понятен любому европейцу, но по ознакомлении только вызывал раздражение. Вероятно, потому-то Фудзиюки и вел на нем свой дневник – чтобы никто не мог в нем до конца разобраться. Никто, кроме того, кто знал, на каком языке он написан.
Никто, кроме Спиридонова.
Написанный на эсперанто дневник содержал два отдельных документа на двух разных языках. Первый документ был, правда, и не документ вовсе – а белый журавлик из бумаги, в Японии такие называются оригами. А в журавлике внутри была записочка на французском. Адресована она была Спиридонову и написана не Фудзиюки…
* * *
Оказывается, она не только прекрасно разговаривала по-французски, но и умела писать, пусть с ошибками, Спиридонов не замечал их.
«Мой тигр, мой судзукадзэ, ветер, принесший в мою жизнь столько радости, столько счастья – и столько боли! Пришло мое время уходить в Темную башню, но я не хочу оставлять тебя в неведении, хотя Фудзиюки-сама убеждает меня не разбивать твое сердце и не говорить тебе о том, что я сделаю. А я не могу не рассказать тебе, что ты значишь для меня, мой господин.
Я родилась девятого дня месяца хачигацу пятого года Мэйдзи[44]; выходит, сейчас мне тридцать три года, и я старше тебя на девять лет. С детства я мечтала стать тайю, и, к моему несчастью, мечта сбылась. Лучше бы я не знала тебя, мой богоподобный гайцзын! Лучше бы умерла от голода или холода! О нет, что же я говорю, какие страшные вещи! Не знать тебя было бы хуже вечного проклятия!
У всего есть цена, и у моей мечты тоже. Мы, юдзё, не принадлежим себе. Мы – собственность нашего борделя, а бордель – собственность его господина. Но и это не все – сам господин и его жизнь принадлежат своему даймё, а тот – «божественному Тенно», да проклянет его имя Небо, земля и преисподняя!
Когда-то Муцухито-сам настежь распахнул двери Японии. Когда-то караюки были гордостью Нихона. Мы спали с белыми богами (хотя я видела лишь одного белого бога, того, кого я зову Викторо-сан) и сами казались небожителями.
Теперь же над Микаса дуют злые ветра; из гордости мы превратились в позор. Из небожителей – в подстилки грязных гайцзын. Прости, что говорю тебе это, я лишь повторяю то, что говорят эти проклятые души.
Господин мой! Мне предписано вернуться в Японию и никогда не покидать пределов Ёситвара[45]. Авторитет Фудзиюки-сама, увы, ничто для проклятого Мэйдзи-Тэнно. Мне все равно, что он ведет род свой от Аматэрасу! Я не приемлю богов, которые столь жестоки, и мне бы хотелось вспороть грязный живот того, кого называют божественным несправедливым Тэнно. Но у меня нет и не может быть такой возможности. И не осталось больше сил и даже слез.
Единственное, что у меня осталось, – это моя душа. Та душа, которую своим тигриным взором разглядел во мне тот бог, которому я поклоняюсь теперь. Эта душа принадлежит тебе, мой господин, и тебе отдаю я ее вместе с этим журавликом.
Я не могла бежать с тобою, хоть Фудзиюки-сама и предлагал мне это. За кражу собственности божественного Тэнно, каковой я являюсь по законом Нихон, тебе бы полагалась смертная казнь, и никто не посмотрел бы, что ты гайцзын. Но они не знают, что я – не их собственность. Я принадлежу тебе одному, мой тигр.
У тебя большое сердце, и я попрошу тебя об одном: не плачь, узнав, что я умерла. В моей жизни осталось мало веры, но та, что осталась, стала намного сильнее. Я верю, что расстаемся мы не насовсем. Я верю, что смогу к тебе вернуться. Рядом с тобой, у тебя на руках я готова пережить семь смертей, а тебе – отдать семь жизней[46]. Поэтому сейчас я улыбаюсь. Моя кровь прольется для тебя, мой господин, – и мы встретимся снова под ясным небом твоей прекрасной страны, где я буду принадлежать только тебе, и никто никогда не разлучит нас.
Я написала хокку для тебя:
В другое время года
Я вернусь к тебе оттуда
Где спят влюбленные души[47].
Писано в городе Талиенвань, девятого кугацу тридцать восьмого года проклятого Мэйдзи[48].
Подписано Акэбоно, урожденной Сэйери Эйко».* * *
– Виктор Афанасьевич, вы не заснули ненароком?
Спиридонов вздрогнул от прикосновения. Он не заметил, как подошла Варя. Дневник Фудзиюки он до сих пор так и не начал читать. Но дело было вовсе не в языке.
Всякий раз, когда он брал в руки книжицу, он видел выглядывающего из-под обложки бумажного журавлика с запиской. Записку он не перечитывал больше ни разу. Он помнил ее наизусть…
– Да нет, – ответил он. – Просто задумался.
– А что это за книжечка у вас? – Варя осторожно, вопросительно взглянув на него «Можно?», потянула из его руки дневник Фудзиюки. Спиридонов отреагировал не сразу, невольно залюбовавшись ею.
На ней было простенькое ситцевое платьице и дешевенькие белые туфельки, волосы убраны в косу и подвязаны цветными лентами, но до чего же она была хороша! И ее не портили ни острые черты лица, ни так и прилипшая к ней худоба.
– Дневник моего учителя, – сказал Спиридонов, давая ей возможность взять дневник в руки.
– А на каком это языке? – спросила Варя, приоткрыв книжицу. – Вроде немецкий. Я иностранных языков не знаю, так что не могу понять.
– На польском, – соврал Спиридонов. В конце концов, Дзержинский и Менжинский были поляками, равно как и создатель эсперанто. Правда, сейчас Польша была для Советской России, пожалуй, врагом номер один.
Журавлик выскользнул из дневника и плавно упал на столешницу. У Вари перехватило дух:
– Ой, какой… Я будто его уже где-то видела… Как странно…
Кончиками пальцев она бережно взяла оригами.
– Вы меня простите, Виктор Афанасьевич… – Спиридонов заметил странный блеск в ее глазах, будто она собиралась заплакать. – Он такой печальный… и пахнет «Красной Москвой».
– Чем-чем? – удивился Спиридонов.
– Духи есть такие, «Красная Москва» называются, – кротко улыбнулась Варя. – Говорят, их жена Молотова придумала! Они такие… такие… – Она не нашла нужного слова. – Дорогие вот только очень…
Спиридонов бережно взял журавлика и принюхался. Запах он узнал сразу – это были Клавушкины духи. До сих пор он не замечал на журавлике этого запаха. Но почему…
Тьфу ты… Спиридонова осенило. Конечно, никакой мистики: ведь дневник с журавликом лежали в том же ящике стола, где хранилась коробочка для бенто. А в ней – Клавушкина рукавичка. Вот запах и перешел.