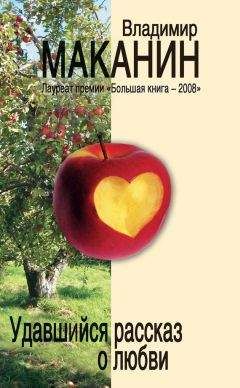Они подъезжают к дому хозяйки, где Сереженька снимал комнату, но его там, конечно же, нет.
– Не знаю. – И сухонькая дворянка глядит встревоженно. – Ему же надо ко второму экзамену готовиться. Заниматься надо, не так ли?
Лапин уходит.
Он опять, садясь, хлопает дверцей машины и опять морщится от боли в голове. Подъезжая к своему дому, он просит шофера покружить около. Шофер не понимает.
– По улицам. По улицам, которые рядом, – объясняет Лапин.
У Лапина лишь крохотная надежда, что шестеренки милицейской организации еще не соприкоснулись за малостью времени, и тогда все зависит от начальника отделения, от его настроения поутру, от его жены, даже от того, добралась ли районная корь до его малыша, если у него этот малыш есть и если он в возрасте кори, – не велик шанс, а все же. Ведь почти покушение на жизнь, не шутка.
– Сюда, что ли, теперь? – спрашивает шофер время от времени.
Они едут по темным улочкам, похрустывая снежком. Днем этот снег грязен, сейчас он бел. В окнах уже горят огни, Лапин напрягает глаза и вглядывается в открытое окно машины. Едут они неторопливо. Шофер молчит, сам выбирает дорогу. Лапин всматривается в одиноких прохожих, ожидая, когда машина поравняется с ними: он думает о том, что тоже был злобным в Сереженькином возрасте, а ведь проскочил, миновало, ушло. Он видит Сереженьку на скамейке.
– Сергей?.. Ты?.. – зовет он, стараясь не спугнуть, стараясь выказать голосом удивление и то, что это случайность, и никак не больше.
Сереженька подходит, влезает в машину, он трясется от холода. Едва машина трогается, Сереженька нервничает:
– Сидел я. Слушал. Человек там в доме болен, он кричал, а я слушал.
– Ну и что?
– Ничего. Он каждые десять минут кричал.
– Не понимаю, чему ты радуешься. Или он так смешно кричал? – говорит Лапин.
– Обыкновенно кричал.
– Чему ж ты рад?
– Чего ж плакать! Шеф! – развязно обращается Сереженька к шоферу, нервничает и торопится языком. – Шеф, чего ж мне плакать. Не я ж болен. Верно, шеф?
Шофер не отвечает, крутит баранку – ему предстоит длинная путаница переулков, чтобы выехать к дому Лапина.
– Вроде меня умник, – подмигивает Сереженька Лапину в адрес шофера. – Шеф. Вот если б тебе выбирать, что бы ты выбрал: свою ногу или хороший иностранный протез? А, шеф?
Шофер коротко хохотнул на эту глупость и молчит.
– Точно, вроде меня, – заключает Сереженька о шофере. Сереженька нервничает до самого дома Лапина.
Когда поднимаются по лестнице, он быстро идет перед Лапиным и стучит зубами от холода. Едва войдя, Сереженька сразу же кидается на кухню, затем к ножу – и чистит картошку быстрыми мальчишьими движениями. Что-то обезьянье в этом и закоренелая привычка самому кормить себя. Лапин смотрит, тяжело садится на стул.
Минуты две сидит Лапин так, затем встает и ищет еду.
– Ого! Колбаса! – радуется Сереженька.
Но чистить картошку не бросает. Он приучен к работе. Тончайшие шкурки, тонкие, лучшей в мире школы, еще быстрее бегут с его рук веселым ручейком. Сереженька курит, он держит сигарету во рту набок и быстро двигает ножом.
Лапин помнит это лицо совсем маленьким. Помнит, как потемнели волосы и как челюсть слегка вытянулась. Сереженька рос, выражение лица постепенно менялось, будто бы виляло то в одну, то в другую сторону, приобретало новые черточки и штришки и все-таки оставалось тем же лицом, Сереженькиным.
Сереженька нервничает. Он быстро говорит, что наелся и что спать хочет, что уже досыта наелся и что очень спать хочет, – не дожидаясь слов Лапина, он ставит прямо здесь, на кухоньке, раскладушку, стелет постель, спотыкается, задевает за все руками от тесноты и торопливости.
– Можно, я музыку послушаю?
И от этого «можно» Лапина передергивает.
– Сучонок проклятый! – выговаривает он. – Сучонок ты проклятый! – взвивается Лапин визгливым голосом, сразу сорвавшимся, и минут пять или больше кроет жутким матом, едва поспевая дрожащими губами. – Завтра же сам явишься. Сам пойдешь! Сам, так и так твою несчастную, богом проклятую и убитую! Завтра же!..
Он замолкает, он не знает, что еще сказать. Сереженька на раскладушке лежит сжавшийся, онемевший, притухшими глазами смотрит куда-то под стол, в темноту, будто бы там те самые заросли, где убивали его «мамочку», и тот самый ветер, что шевелил верхушки деревьев. Лапин берет корку хлеба, макает в сковородку, и опять отвращение к еде подступает к горлу. Он обхватывает руками голову и долго сидит так.
Затем он выходит в комнату и звонит в отделение милиции.
– Квасницкий, – тихо спрашивает Лапин, – во Фрунзенском районе розыск на кого-нибудь объявлялся сегодня?
– Во Фрунзенском?.. Нет, Юрий Николаевич. Суббота. Люди пока еще веселятся и бьют только посуду, – смеется Квасницкий.
Лапин гасит свет и ложится одетый, его знобит – он лежит на спине, глядя в потолок, на блуждающий на потолке свет автомобилей. Отключенный от всего, он лежит долго, как мертвый – ни боли, ни мысли, ни плохо, ни хорошо. Наконец появляется ровное дыхание, он чувствует, что жарко и благодатно дышится как бы к близкому сну. Почти тут же он слышит легкое касание пола босой ногой. Лапин открывает глаза, то есть он и не закрывал их, а только осознал, что глаза у него есть и что они открыты. В темноте Лапин видит появившегося Сереженьку. Тот стоит и сдерживает дыхание: в руке у него нож – расслышал, что Лапин спрашивает о розыске, от страха обезумел и вот схватил нож, тупой, столовый, которым и одежды не разрежешь. Лапин сонно шмыгает носом, и Сереженька тут же молнией исчезает. И опять Сереженька крадется, появляется тихо у входа в комнату, босо шуршат ноги, и теперь Лапин уже умышленно вдыхает с шумом, и Сереженька исчезает, метнувшись легкой тенью. Больше он не появляется, минута идет за минутой, Лапин смотрит в потолок и ждет. Затем на ощупь набирает привычный номер телефона.
– Нет. Не было розыска, – говорит Квасницкий.
Лапин лежит, долго лежит, затем с усилием поднимается с постели и выходит на кухню. На кухне темно, тот же далекий фонарь маслится на стене, и те же автомашины бегают по потолку бледными фарами. Сереженька накрыт с головой одеялом, маленький и скрюченный, и ноги поджаты к самому лицу – комочек какой-то, а не человек.
Лапин садится рядом. Он чувствует, что говорит что-то повисающее в воздухе, неживое, неподходящее.
– …А помнишь, как мы помидоры таскали, как я кашу тебе экономил. Ты был маленький, дразнили тебя…
Лапин протягивает руку, касается плеча, и одеяло тихо вздрагивает. Лапин продолжает:
– Ты залезал под стол с моей кашей и ел, помнишь, Сереженька? А как Голев умирал и как ты боялся его мертвого. А я тебе воробья показал и объяснил, что это душа нашего маленького Голева, что бояться не надо и что иногда он будет близко к нам прилетать и смотреть, Ты еще хотел запомнить его, мы у забора сидели, лопухи там были, и этот жирный воробей склевывал наш хлеб.
Лапин приоткрывает его голову и гладит рукой. Тихие рыдания и всхлипы трясут, выворачивают худенькое тело Сереженьки.
– Они расстреляют меня, Юрочка? Если я явлюсь завтра? – я явлюсь, только ты скажи мне сразу. Не обманывай меня, ты один у меня, Юрочка…
Бедняга не знал, что он никого не убил, и Лапин только сейчас осознает это. Лапин гладит его по вихрам и говорит про Павла Ильича, про давний запомнившийся дождь за окном и прыгавших кроликов.
– А по… помнишь Инну Семеновну? – всхлипывает Сереженька.
– Да, она хорошей с нами была.
– Оч… очень хорошей…
Лапин сидит рядом и успокаивает рукой дрожь худенького, не успевшего толком сформироваться тела.
Сереженька наконец спит. Каждые два часа Лапин тихо поднимает трубку, звонит, и снова – тишина. Ночь тянется медленно и неслышно.
Лапин сидит у окна. В утомленном сознании ему чудится, что кто-то пролетел за окном, шумя тяжелыми крыльями. Лапин невесело усмехается – уж не душа ли прокуратуры, не дремлющая ночью, присматривается к Лапину?
Суставы ноют, тело ломит.
Лапин кутается в пальто, зябнет и посматривает, как понемногу светлеет за окном небо.
* * *
Отца у него не было – Сереженька помнил только то, что была мать и что ей приходилось туго. Помнил, что жили они где-то под Краснодаром и что мать учила его ничего не просить.
– Никогда не проси, – говорила мать. – Не привыкай.
Мать таскалась с ним на работу куда-то в пригород, лесом, и он очень боялся таких ночей. Территория в то время раза три переходила из наших рук к немцам и обратно, и по лесам было немало жулья и всякой швали человеческой, – дословно так объяснял это детям Павел Ильич. Но Павел Ильич и его объяснения были после. Сереженька же помнил, и помнил очень ясно, что матери пригрозили и что она стала бояться как-то по-особенному.
Мать и раньше боялась, всегда боялась, но теперь, когда она шла с Сереженькой на работу, она вдруг напевала, чтоб не было страшно, или вдруг громко говорила: «Смотри, какое дерево!» Ягоду не было видно к ночи, а то бы она говорила про ягоду. Сереженька помнил, что, когда уже вернутся домой и мать уже уложит его, она все сидит и сидит над ним какая-то недвижная, глядит и не видит. А иногда спрашивала: